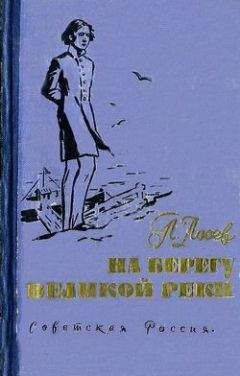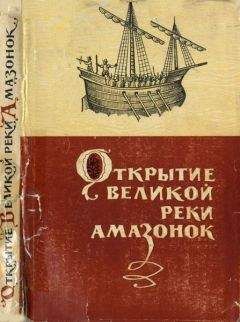Виктор Астафьев - Плацдарм
— Спасай Бог, Алеша! Спасай Бог!
Мокрый голос связиста, лепет его уже не слышен, скоро и провод, пропускаемый Семой через горсть, перестанет волочиться по воде, пружинисто взлетать. Грудью упавший на катушку, стравливающий провод, словно худенькую нитку с веретена, Сема ликовал в душе — не было на проводе комковатых сростков, голых узелков — провод для прокладки под водой подбирался трофейный, самый новый, самый-самый. Мотнувши барабан на катушке в последний раз, красная жила напряженно натянулась, потащила из-под Семы Прахова катушку. Схватившись за нее обеими руками, слизывая слезы с губ, связист обреченно уронил:
— Все! — и зачастил по-бабьи, в голос: — Лети, проводок, на тот бережок! — слезы отчего-то катились и катились по его лицу. Боясь упустить живую нить, соединяющую его все еще с напарником, ушедшим страдать, терпеть страх, может, и умереть — чего не скажешь тут, как не повинишься — ничего-ничего не жалко, никаких слов и слез не стыдно. В шарахающейся темноте, которой страшнее, как думалось и казалось Семе Прахову с «безопасного берега», ничего на свете не было и не будет никогда, он улавливал жизнь, движение на реке, шевеление провода. «Господи!» — оборвалось сердце в Семе аж до самого живота, когда катушка дернулась и провод замер. Он представил, как неловко напарнику его выпутывать провода из бухтины, краснеющей на дне лодки, и одновременно управляя неуклюжим этим полузатопленным челном. Перебирал и перебирал ногами Сема Прахов, готовый бежать, помочь напарнику. Да куда побежишь-то — вода, темная река перед ним, распоротая и подожженная из конца в конец. Сема аж взвизгнул, когда жилка на его катушке дернулась и снова натянулась.
«Подсоединился! Подсоединился!»
По камешнику кровавой жилкой бился, шуршал галькой провод, вместивший в себя все напряжение человеческое, будто напрямую к Семе был прикреплен конец того провода. — Гребе-от, миленький, гребе-о-от! Живо-оой! — пуще прежнего запел, зарыдал Сема Прахов. — Живо-ой! Лешенька-а-а-а!
Выбившись из полосы могильного света, спрятавшись во тьму, Лешка перестал осторожничать, сильными толчками гнал лодку к другому берегу. Смоченные лопашни почти не скрипели, весла мягко падали в воду. Через колено перекинутый провод послушно тащил грузила, и они, падая за борт, брызгались. Слизывая с губ холодные брызги, Лешка задышливо ахал, выбрасывая из себя горячий ноздух. Да если бы даже он кричал, а он кричал, завывал время от времени, но не слышал себя, и если бы навесы стукались, как барабан на молотилке в Осипово, — никто бы ничего не слышал — такой грохот и вой носился над подою.
С вражеской стороны, с колоколенки деревенской церковки упали на воду два синих прожекторных луча, запорошенных огненной пылью.
«Этого только не хватало!» — ахнул Лешка. В свете их он заполошенно заматерился, припадочно замахал веслами по воде.
На островке лучи скрестились, шарили по нему. В высвеченное место ударили пулеметы, перенесли весь огонь туда пушки и минометы, грязь в протоке, горелый пpax на острове подняло в воздух, но чужой берег уже не дышал повальным огнем, не озарялся сплошной цепью пулеметов, которые сперва казались огненным канатом, протянутым вдоль берега, не понять было: то огонь непрерывный идет или уж сам берег в пулеметы превратился. За рамой, за передовыми позициями немцев, будто с воза дрова, вываливали бомбы ночные самолеты. На секунду сделалась видна сползающая набок головка церкви, оба прожектора мгновенно потухли.
— А-а-а-а-а! — завыл, заликовал одинокий Лешкин голос на темной реке. — Не гля-а-анется-а! Не глянется, курва такая! А-а-а-а! — орать-то он, связист, орал, но и о работе не забывал.
Вырвал вместе с гвоздем груз, застревающий в гнилом шпангоуте, долетели брызги, и снова не к месту мимолетом подумалось: «Будто перемет на Оби выметываю»… — и тут же уронил весло, потому что лодка начала крениться, за бортом послышалось бульканье, хрипы. И хотя Лешка все время настороженно ждал и боялся этого, в башке все равно все перевернулось: «Ну, пропал! Все пропало…»
Не давая себе ни секунды на размышления, он выхватил из уключины весло и вслепую, на хрип и бульканье ударил раз, другой — содрогнулся, услышав короткий вскрик, мягкое шевеление под лодкой, вяло стукнувшись о дно лодки, какой-то горемыка навечно ушел вглубь.
«Наши это… Наших несет… Быстрей, быстрей!..» Он по шуму и ходу лодки почувствовал — прошел стрежень реки, течение ослабело. Он выбрасывал за борт провод с последними подвесками: надо подсоединять новую катушку, она вмещает пятьсот метров провода, лодку почти не сносит, провода должно хватить с избытком.
Он отбивался веслом от утопающих, наседающих на лодку. Народу гуще, грохоту и шуму гуще — верный это признак: берег близко. Он изловчился черпануть ладошкой за бортом и донести до рта глоток обжигающей воды. Провод струился, утекал за борт, человек работал лопашнями, закидываясь назад, работал так, что старые, из осины тесаные весла прогибались на шейках.
«А-а, гробина! — стонал Лешка. — А-а, корыто! Его только вместо гроба… Нашу бы, обскую сюда расшивочку-у-у…»
— У-у-у-у-у! У-у-у-у-у! — вырывался вопль. Сил в нем никаких уже и нет, один крик остался. Обжигая колено, цепляясь за штаны ерошенными узлами, ползет провод через борт, ложится на дно реки. Жила эта соединит берег с берегом, человека с человеком, стало быть, и с жизнью соединит, с людьми, с Семой Праховым, милым, добрым парнем. Помстилось, что тот, которого он оглушил веслом и отправил на дно, Сема Прахов. Почему-то все беспомощное, беззащитное облекалось в облик напарника. — У-у-у-у-у-у, у-у-у-у-у-ууу! — мотая головой и всем телом мотаясь, выл Лешка, на ругательства сил уже не хватало. Из воды вздымал весла не Лешка, не связист Шестаков, весла взлетали и падали сами, вразнобой, будто бы работал ими пьяный или сонный человек. — У-у-у-у… Сейчас главное — не ошалеть от страха и одиночества. На Дону, на притоке ли — сейчас не упомнить, — он чуть не утонул в мелком ерике оттого, что испугался. И кого? Ужей! Он когда сунулся в ежевичник, то увидел их целый свиток. Впереди Лешки прокатили пушку, переехали клубок змей — черные твари, извиваясь, разевали безгласные малиновые рты и кипели черным варом, распускаясь отертыми, бледными, чем-то набитыми брюхами. Они, те гады, долго потом снились Лешке. Хорошо вот на севере родился, где никаких тварей не водится, комар да мошка — и все тебе паразиты, ну иной раз слепень прилипнет к телу, к мокрому, да куснет, либо паут закружится над головой, загудит истребителем, упреждая, что в атаку идти собирается.
Лешка хитрил, заставляя себя думать о чем-нибудь постороннем и в то же время, вытянувшись до последней жилочки, напрягал слух: не завозится ли кто за бортом? Когда-то кончилась, иссякла бухта провода с подвесками, когда-то успел он, хлюпаясь в мокре, подсоединить конец бухты к последней катушке и по тому, как убыстрялось вращение на катушке, понимал: провода на ней осталось немного. Хватит ли до берега? Где вот он, берег-то?
За правобережной деревушкой, выхватывая кипы дерев, начали бить зенитки. Небо там озарилось ракетами, всполохи по нему заходили. «Неужели наши? — подумал Лешка, — нет, не наши, далеко. Может, партизаны помогли. Погибнем все мы тут… — и никогда всерьез не принимавший партизан, пленных и прочую братию, якобы так героически сражающихся в тылу врага, что остальной армии остается лишь с песнями двигаться на запад, потери противника да трофеи подсчитывать, тут взмолился бывалый фронтовой связист: — Хоть бы партизаны…»
— Спасите! — послышалось совсем близко, кто-то хватался за весло, за лодку, плюхался, возился подле челна. Лешка тормознул веслами, и через мгновение до него донеслось: — Аси-и-ите-э-э-э!
Огонь на правом берегу распался на звенья, на узелки, на отдельные точки. Звуки боя разносило на стороны. Послышались очереди автоматов, хлопанье винтовок, аханье гранат, дудуканье немецких пулеметов из уверенного перешло в беспорядочное. Ракеты, не успевая разгораться, заполосовали над яром, который казался то далеко, то совсем рядом. «Добрались! Батюшки! Какие-то отчаюги уже добрались!»
— Скорее! Скорее! — ярился одинокий пловец и чувствовал, как от натуги выдавливает глаза из глазниц, швом сварки режет разбухшее сердце, гулко бьется кровь уже в заушинах. Сделалось мелко. Лешка не греб, уже толкался веслом, между делом бил веслом направо и налево. Слышались вопли, раздался вроде бы даже выстрел и чей-то пропащий крик:
— Лимонку бы!
«Да я же… Да пропади оно, корыто это! Ради наших же…»
Но чувство мерзопакостности, оно ж, как грузило на проводе, гнетет, вниз тащит, давит глубиной бездонной память и гнет — это на всю жизнь, — догадывался Лешка.
Катушки едва-едва хватило до суши! Все-таки далеко снесло связиста, пока он отбивался от тонущих людей. Когда лодка шоркнулась о дно и стала, он полежал в мокре, дышал, слушал с уже опустошенной облегченностью, как умиротворенно скрежещет опроставшаяся катушка, придержал ее ногой и только тут обнаружил, что плавает в корыте, точно склизкий пудовый налим, без икры правда и без потрохов — все вместе с проводом выметено в реку, все выработалось, все вымыто из него, всякие органы опустошились, лишь тошнотная густота судорожила тело, гулко, будто в пустой бочке, плескалась, искала выходу мокрота.