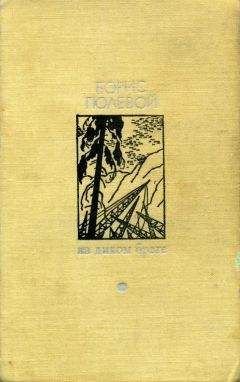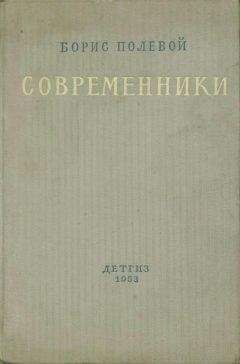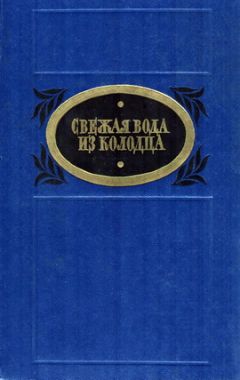Борис Полевой - На диком бреге
— …Нехорошо, товарищи днепрогэсовцы, мне в обгон государственных планов свои приказы давать. Могу, конечно, но будет неправильно. Сходите-ка вы лучше с днепрогэсовским поклоном к московским большевикам, к их новому секретарю. Он парень молодой, энтузиаст. Убедите его уговорить столичный рабочий класс помочь вам в порядке дружбы. Москвичи, они такие: тронете их за сердце — горы свернут… Ну, а не выйдет — тогда уж ко мне…
Секретарь МК, к удивлению Литвинова, оказался чуть постарше его самого. Он усадил днепрогэсовцев и, весело поглядывая на них небольшими, светлыми и, должно быть, зоркими глазами, сдабривая речь шутками, стал с пристрастием допрашивать о делах, о строительстве, о соревновании, тогда еще только нарождавшемся. То и дело его соединяли по телефону с нужными людьми. Звонким, напористым голосом он начинал разговор все с одной и той же фразы:
— Вот у меня сейчас сидят товарищи, знаете откуда? Не знаете. С Днепрогэса. Ну, так вот они… — Дальше излагалась просьба, а потом говорилось:
— Ну, раскидывайте мозгами. Знаю, нелегко, но ведь кто просит? Днепрогэс! — и, повесив трубку до следующего вызова, продолжал спрашивать: — Ну, а женщины как? Много их? А как со столовками? У нас еще паршиво, воображаю, как там у вас… А заработки?.. Да, а ученые старики смирились с тем, что будете затоплять остров Са-гайдачный?..
Потом, после какого-то звонка, секретарь вскочил из-за стола, посмотрел на всех веселыми глазами и, насунув на белокурую голову кепку с пуговкой, с мальчишеским задором пригласил:
— Ну, пошли толковать с рабочим классом. — И, пропустив всех, бросив по дороге секретарше: — В случае чего ищите на «Динамо» или на «Шарике», — опережая всех, сбежал по лестнице…
Самое удивительное было лет тридцать спустя. Литвинов перед отъездом в Дивноярское пришел в ЦК для последней напутственной беседы. Снова сидел он в кабинете этого человека и докладывал ему свои соображения в пользу полного, комплексного освоения Оньского каскада, что было тогда очень спорным. А секретарь прервав цепь доказательств, вдруг спросил:
— А вы, Федор Григорьевич, в тридцатых годах у меня в МК были?.. Постойте, насчет чего же? — Он нетерпеливо пошевелил пальцами. — Ах, насчет лопастей и подшипников, будь им пусто… Ведь были? — И вдруг засмеялся, отчего широкое, полное лицо его опять стало задорно-мальчишеским. — Помните, как вместе московскому рабочему классу челом били? А?.. Так, значит, опять в походе? Есть порох в пороховницах? Ну, ну, простите, перебил, так вы считаете, надо осваивать весь каскад? Так… А вот есть и другое мнение: очень много пахотной земли затопите… Как с этим? Взвешивали? Хорошо взвешивали?..
Это воспоминание как-то успокоило Литвинова — порох в пороховницах еще есть. Мы еще себя покажем всем этим мальчишкам… «Дедушка, подвези…» Нет, озорницы, женщине столько лет, на сколько она выглядит, а мужчине — столько, сколько он сам чувствует. Это сугубо правильно». И он победно откинулся на спинку сиденья и, хотя его немилосердно подкидывало и раскачивало на ухабах, распорядился:
— Петрович, а ну подбавь газку, не яйца везешь!
«Ничего, ничего. Дивноярскую отстроим, могут и еще одну, Усть-Чернавскую, дать».
Усть-Чернава, следующая за Дивным Яром, — самая большая ступень каскада. Она была заветной мечтой Литвинова. «Отгрохать бы ее напоследок, положить бы на землю еще шрамчик, порадовать бы еще раз народ, а там, верно, можно, пожалуй, и на пенсию… Дедушка. Вон оно как. Этот дедушка еще за себя постоит…»
Возле приземистых дощатых построек двора большой механизации девушки повыскакивали из машины, сыпля на ходу: «Спасибо, Федор Григорьевич!.. Счастливого пути!.. Извините за беспокойство!..»
Машина пошла тише. Литвинов задумался: «Дедушка! Это верно: уж больно много за последнее время морщин. Морщины, черт бы их побрал! Но разве это беда — морщины на лице, лишь бы на сердце морщин не было». Эта мысль ему понравилась — сердце без морщин! И он постарался ее запомнить. Может быть, где-нибудь и пригодится. «Но все-таки, в сущности, обидно короткая эта штука — жизнь. Только во вкус войдешь, ума наберешься — ан сдавай дела…»
— Ничего, Федор Григорьевич, вы у нас как огурчик, — произнес вдруг Петрович, свертывая к двухэтажному бревенчатому зданию управления Оньстроя.
— Что? Ты о чем? — вздрогнув, спросил Литвинов. Притворяться он не умел и рассердился: — Куда суешься? И вообще, говори, да откусывай. Понятно?
В приемной сказали, что важных звонков не было, срочных бумаг тоже, и начальник, оставив, как он говорил, в «предбаннике» кепку и куртку, не заходя в кабинет, отправился к Петину, которому в управлении отвели самую большую и солнечную комнату, служившую раньше для общих собраний. При появлении начальника строительства люди, ожидавшие в приемной, поднялись. Все, кроме двоих. И этих двоих Литвинов успел рассмотреть: худой, жидкого сложения паренек с бледным лицом, поперченным яркими веснушками так, что оно походило на яйцо кукушки, и коренастая девушка с мальчишеской головой, румяными щеками, с очками на коротком носу. Прежде чем скрыться за дверью петинского кабинета, он заметил даже, что в темной оправе этих очков почему-то нет одного стекла.
Повесив пиджак на спинку стула, в свитере, из-под которого смотрел хорошо накрахмаленный воротничок и безукоризненно белая сорочка, в сатиновых нарукавниках, Петин, спокойный, деловой, сидел у просторного стола, на зеленом поле которого ничего не было, кроме лампы дневного света, подставки для вечной ручки да папки с бумагами. Перед ним на кончике кресла сидел комендант Зелёного городка, демобилизованный офицер в стареньком, но отглаженном кителе. При появлении Литвинова разговор прервался. Комендант сделал было поползновение уйти, но начальник сказал: «Продолжайте, продолжайте», и, пройдя на цыпочках в глубь комнаты, устроился в конце стола заседаний.
— …На первый раз я вынужден объявить вам выговор, — не повышая голоса, произнес Петин, — и предупреждаю вас, товарищ, — вы не справляетесь со своими обязанностями. — А Литвинову пояснил: — Ну как же? Партия ему доверила такой участок — быт. Быт живых людей. Люди в нашей стране — самое важное, самое главное, а у него в Зеленом городке печи дымят, в швы палаток дует. Ремонт не только не окончен, а даже и не начат…
— Товарищ Петин, вы же, наверное, знаете, людей мне не дают, материалов не отпускают. Я же сколько раз докладывал в управление… Вот. — Комендант тянул какие-то бумаги.
Не принимая их, Петин решительно встал.
— Все. Я отвечаю за то, что мне доверено. Вы отвечаете за то, что доверено вам. Понятно? Если непонятно, вас на такой должности нельзя держать ни минуты. Это понятно?
— Так точно, — тихо произнес комендант я даже пристукнул каблуками. По его грубоватому лицу пошли алые пятна, а под кожей до синевы выбритых скул перекатывались желваки. — Будет сделано… Разрешите идти?
— Ступайте.
— Нет, стой! — подал голос Литвинов. — Насчет заявок на материалы ты тут не врал? Дай-ка твой архив. — Узенькие синие глазки так и сверлили коменданта, нерешительно остановившегося среди комнаты, Литвинов хлопал себя по карманам. Очки остались в кабинете. Далеко отставив от себя бумагу, он старался ее прочесть. — Ну какое же здесь — «будет сделано». Из чего?. Трус, тряпка… Большевик не должен ни перед кем хвост поджимать… Так и говори — ничего не будет сделано, пока не дадите столько-то кирпича, столько-то леса, столько-то теса, столько-то гвоздей… «Будет сделано»… Ты что ж, воровать материал собрался?.. Составь еще раз заявку и принеси… А людей не жди, не будет. Самих жильцов мобилизуй: не хотите мерзнуть — чините. Вон Олесь Поперечный со своим мальцом, говорят, две землянки отгрохал — для себя и для экипажа. Учитесь. А теперь — кругом марш.
И когда дверь за комендантом закрылась, пояснил виноватым тоном:
— Извините, Вячеслав Ананьевич, вмешался… Знаете их — военная косточка. Там ведь им все материалы, как говорится, от пуза по заявке давали. Вот и отвык мозгами шевелить. Может, выговор-то на первый раз и не надо, а?
— Нельзя, Федор Григорьевич, — твердо сказал Петин. — И обязательно в приказе. Ведь из редакции «Огней тайги» еще письмо переслали. Вот оно. «Поселок к зиме не готов»… Ну, эти «Огни» — ладно, могут в «Правду», в «Известия» написать. Знаете, какой народец сейчас стал! И тогда уж не ему отвечать придется…
— Ну, раз объявили, оформляйте, — неохотно согласился Литвинов. И вдруг устало опустил плечи. — Письмо сибиряков прочли? Ну, что скажете?
— Странные люди. Местники. — Петин поднял со стола бумагу, пеструю от карандашных подчеркиваний. — Хотят идти к коммунизму с кругозорцем удельных князей!
Литвинов взял бумагу и, отставив ее на вытянутой руке, пробежал глазами документ, адресованный в Центральный Комитет партии и Совет Министров и в копии пересланный в управление строительством. Это было обстоятельное, со знанием дела написанное послание. И говорилось в нем о том, о чем в свое время с сомнением говорил Литвинову и секретарь ЦК, — о большом уроне, который нанесет Старосибирской начинающей бурно индустриализироваться области затопление многих обжитых, плодородных массивов речной поймы. Сейчас — это житницы и молочные фермы отдаленного края, дающие многим старым и новым городам зерно, молоко, мясо. Сибирское море, разлившись, по второму проекту Дивноярской станции, похоронит часть этих земель, возделанных еще во времена Ермака. Многим колхозам, лежащим выше будущей плотины, придется разрушать хозяйство, а десяткам, может быть, сотням тысяч людей покидать села, деревни, даже один городок, и уходить в глубь тайги на необжитые места.