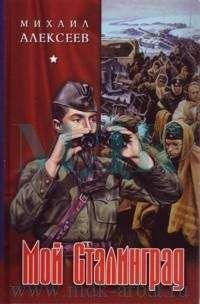Михаил Алексеев - Хлеб - имя существительное
– Ничего себе, отблагодарил, старая кочерга! – добродушно смеялся Аполлон. – Ладно, в другой раз в ногах тебя зажму. Пищи там – не услышу. Хоть кусайся за икры – не шелохнусь!
– Ай бесчувственный?.. Оно, Полоний, и рад бы укусить, да нечем, откусался, видать. Смастерили было мне в Саратове искусственные зубы. Только стал привыкать к ним – ан беда. На ночь-то я их сымал. Помою и положу на подоконник. Мой Шарик, старый кобелишка, не разобрал в темноте, что это такое, видать, за мосол принял. Уволок на улицу и сгрыз. Теперича опять без зубов. Старуха Настасья моя, через соску жеваным, как малое дитя, меня кормит...
Аполлон Стышной с фронта вернулся коммунистом. На груди у него было два ордена Славы, две Красные Звезды и один орден Отечественной войны I степени. Говорит, был разведчиком. Но никто ему не верит: мыслимо ли с таким ростом в разведке? Аполлон поначалу старался доказывать, документы какие-то вынимал из кошелька, а потом перестал. Не верите – черт с вами, важно, что я-то не вру!
Врать и правда Аполлон не умел. За честность и главным образом за то, что любил людей, умел их слушать терпеливо, его избрали секретарем партийной организации колхоза. Дел навалилось хоть отбавляй. Послевоенная неурядица: нехватка людей – не все еще вернулись из армии, а большинство и вовсе не вернется; нехватка машин, все еще пахали и сеяли на коровах да на лошадях; разрушенные и полуразрушенные избы – надо помочь людям, чтоб над головой была крыша; а другим выхлопотать пенсию за погибшего ли отца, мужа или сына – яростная драка с районным собесом; а тут выявляется нехватка учителей – опять в район, опять драка, на этот раз уж с районо. Основная же забота – все о нем же, о хлебе: страна властно требовала его больше и больше.
Вымотался Аполлон, про себя забыл совсем. Не собрался даже жениться – так и ходил холостяком, к которому присовокупилась прибавка: старый холостяк. Нравилась ему одна женщина, посватался к ней тайно, да получил отказ: все ждет своего Петра, не верит похоронной. Что ж, и Аполлону не к спеху, будет ждать того часа, когда смирится со смертью мужа солдатка, пойдет за Аполлона. Жениться на другой он не хочет – какая же это женитьба, коль нет любви! Так вот и живет один в доме со старшей своей сестрой: мать с отцом умерли в войну, не дождались своего младшенького.
Партия тем временем искала новые формы руководства. При райкомах ввели институт зональных секретарей. Весь район был разбит на зоны, для каждой из них – по одному секретарю райкома, их-то и назвали зональными секретарями, а потом просто одним словом – зональный.
Аполлон Стышной, видать, давно уж был на примете у первого секретаря. Он и уломал Аполлона. Стал наш Аполлон зональным. Кроме Выселок в его «епархию», как в шутку говорил он сам, входил еще добрый десяток сел и деревень, отстоявших друг от друга от трех до двадцати километров.
– С того дня и начались мои мытарства, – повествовал невесело Аполлон. – Мысль-то вроде была и верной: приблизить руководство к тем местам, где люди добывают хлеб и все прочие блага. По штатному расписанию зональному не полагалось не то что автомобиля или на худой конец мотоцикла, но даже и лошади. Заберешься в какое-нибудь далекое селение, сделаешь там свое дело, а потом ломай голову, как добраться до следующего. Большая часть времени уходила на ходьбу. Хорошо, хоть у меня ноги длинные, выручали малость, а каково коротконогому! Теперь-то, по прошествии времени, я уж стал подумывать: а не эти ли мои длинные ноги приглянулись первому секретарю? Других каких-либо достоинств я что-то за собой не замечал!..
Прошло время, и институт зональных секретарей был ликвидирован: жизнь подсказала новые формы. Вернулся я в свои Выселки и свет увидел. Поначалу сестра родная не узнала – так избегался, измотался, кожа да кости одни остались. Да ничего, вскорости и мясо наросло – не сказать, чтобы уж очень толстым слоем наросло, но все же...
Теперь Аполлон работает секретарем парторганизации в своих Выселках. Секретарем неосвобожденным, то есть без зарплаты.
– И хорошо, что неосвобожденным. А то ведь и не заметишь, как освободишься от тех забот, которыми живут на селе люди. А забот, сами знаете, много. Хлеб и мясо. Мясо и хлеб. Я бы к Каплиной пословице прибавил сейчас и другую: «Мясо – тоже имя существительное».
Сказав это, Аполлон поднялся с бревна, на котором мы с ним сидели, – высоченный сверх всякой меры, в эту минуту он показался мне еще выше.
– Пойду на поле. Нынче начнут косить на валки пшеницу.
Полесовный
Если Аполлон Стышной своим необычайным для Выселок именем обязан мимолетной моде, то Меркидон Люшня оказался жертвой святцев, которых ревниво придерживались его родители. В многодетной семье Люшней к моменту появления на свет младшего сына было уже три Ивана, две Матрены и три Артема. Так выходило все по святцам, от которых Степан Люшня, отец многочисленных этих чад, отойти не решался ни на единый вершок. Согласно все тем же святцам, для «младшего» Степан должен был взять одно из двух имен: либо Никон, либо Меркидон. Остановился на последнем. Посоветовал Кузьма Удальцов, то есть Капля, приглашенный в крестные отцы.
– Никон, – сказал он тоном, исключающим малейшие возражения, – это для попов да протодьяконов. Твоему, Степан, сынишке такое имя ни к чему. Ни попа, ни протодьякона, ни даже задрипанного псаломщика из него, ясное дело, не получится, потому как голосом вас, Люшней, Бог обидел. Ни в один приличный хор вас и на пушечный выстрел никто не пустит – испортите всю песню вчистую. Зачнете драть, как поперечная пила, – ушеньки затыкай. Знаю, потому как не раз бывал и с тобой, Степан, и с твоим отцом, Царство ему Небесное, в одной компании. Слушаешь вас – ну, аж моченьки нету. Вам бы только в аду для чертей песни играть. Черт ладу не любит, ему абы орали. А орать вы горазды. Это уж точно. На сходках вас никакой черт не переорет... Ну, так вот. Стало быть, Никон – не для твоего дитяти, Степан. Меркидон – иное дело. Это в самый аж раз. Знавал я в своей жизни трех Меркидонов. И все люди как люди. Хо-о-рошие мужики, дельные, работящие. И не воры. Правда, с придурью, а так ничего, молодцы ребята.
Доводы, как видим, были весьма убедительные. Так что Степану ничего не оставалось, как согласиться с Кузьмой. К именам же, как бы ни были они необычайны, со временем все привыкают. Привыкли и к Меркидону. Не вдруг, но привыкли. Хуже другое: с малых лет за Меркидоном начали замечать некие странности, давшие впоследствии повод односельчанам считать его не то чтобы полоумным, дурачком, а так, вроде бы человеком чуток блаженным, или, если хотите, с дурцой, именно с придурью.
Ничего, скажем, удивительного нету в том, что какой-то мальчишка вообразит себя хозяином леса, смастерит деревянное ружье, будет бродить с ним по лесным полянам да просекам и покрикивать, подражая леснику, на воображаемых нарушителей лесного катехизиса: «Бросай топор, пилу – не то я палю!»
Нету, повторяем, тут ничего странного. Другое дело, когда совершенно взрослый человек, к тому же отец немалого семейства, назовет себя полесовным, лесником значит, и начнет по ночам ходить в лес и ловить там воров, хотя на это его никто не уполномачивал. Любой и каждый может сказать про такого детинушку: «Мотри, свихнулся, сердешный!»
А ведь именно это самое и приключилось с Меркидоном Люшней. Вернувшись с последней войны, он вскоре самозванно нарек себя полесовным, обзавелся ружьишком и стал выходить в лес в самое неожиданное для похитителей время: в глухую полночь, в лютую стужу, в жуткую метель или в проливной дождь – тогда, когда хороший хозяин собаку во двор не выгонит из дому. Именно в такое-то гиблое время ты можешь услышать в урочище внезапное и властное:
– Бросай топор, пилу – не то я палю!
И из темных глубин леса к порубщику приблизится такая же темная, медвежьей кладки фигура. Насмерть перепуганный односельчанин начнет увещевать, грозить:
– Брось эти шутки, Меркидон! Слышь! Не твое это дело. Брось, говорю!
В ответ – еще более властное и решительное:
– Бросай топор, пилу – не то я палю!
И на уровень плеча приблизившегося подымется нечто, очень напоминающее двустволку. Поединок неизменно кончается тем, что нарушитель кинет топор и пилу, если они при нем, и отступит по требованию самозванного полесовного на почтительное от него расстояние. На другой день Меркидон, конечно, возвратит и топор, и пилу, но не прежде того, как их владелец выслушает длиннейшую проповедь относительно лесных богатств, которые принадлежат всем, а не отдельным несознательным личностям вроде имярек.
В глаза и за глаза над Меркидоном посмеивались в Выселках. И не только в Выселках. Случалось, что наш полесовный наведывался и в соседские лесные угодья и там попугивал самых отчаянных, отпетых порубщиков, совершавших свои набеги на лес в исключительную непогодь.
Люди посмеивались, а Меркидону и горюшка мало. «Глупые, потому и смеются», – думал про себя он, не оставляя своей дополнительной и, скажем прямо, далеко не безопасной нагрузки: разок в Меркидона все-таки пальнули из ружьишка, дробь жутко пропела над самой его головой, всего лишь на полвершка от маковки срезала липовую ветку, которая, повиснув на тонкой жилке лыка, на минуту закрыла все перед глазами малость дрогнувшего стража. Примнилось Меркидону, что так громко бабахнуть могла только двустволка Василия Куприяновича Маркелова, но непойманный – не вор. О своих подозрениях сообщил Аполлону Стышному да вечному депутату Акимушке Акимову, которые одни только и понимали Меркидона правильно и всячески поддерживали его. Те пообещали попристальнее понаблюдать за одним из бывших руководителей артели, перекочевавшим совсем недавно в Поливановку, на Председателеву улицу.