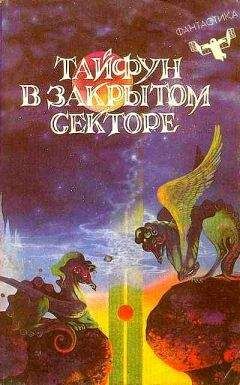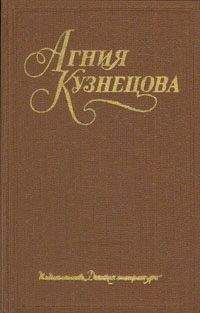Александр Солженицын - Один день Ивана Денисовича
Завстоловой — откормленный гад, голова как тыква, в плечах аршин. До того силы в нём избывают, что ходит он — как на пружинах дёргается, будто ноги в нём пружинные и руки тоже. Носит шапку белого пуха без номера, ни у кого из вольных такой шапки нет. И носит меховой жилет барашковый, на том жилете на груди — маленький номерок, как марка почтовая, — Волковому уступка, а на спине и такого номера нет. Завстоловой никому не кланяется, а его все зэки боятся. Он в одной руке тысячи жизней держит. Его хотели побить раз, так все повара на защиту выскочили, мордовороты на подбор.
Беда теперь будет, если 104-я уже прошла, — Хромой весь лагерь знает в лицо и при заве ни за что с чужой бригадой не пустит, нарочно изгалится.
Тоже и за спиной Хромого через перила крылечные иногда перелезают, лазил и Шухов. А сегодня при заве не перелезешь — съездит по салазкам, пожалуй, так, что в санчасть потащишься.
Скорей, скорей к крыльцу, средь чёрных всех одинаковых бушлатов дознаться во теми, здесь ли ещё 104-я.
А тут как раз поднапёрли, поднапёрли бригады (деваться некуда — уж отбой скоро!) и как на крепость лезут — одну, вторую, третью, четвёртую ступеньку взяли, ввалили на крыльцо!
— Стой, …яди! — Хромой орёт и палку поднял на передних. — Осади! Сейчас кому-то …бальник расквашу!
— Да мы при чём? — передние орут. — Сзади толкают!
Сзади-то сзади, это верно, толкачи, но и передние не шибко противятся, думают в столовую влететь.
Тогда Хромой перехватил свой посох поперёк грудей, как шлагбаум закрытый, да изо всей прыти как кинется на передних! И помощник Хромого, шестёрка, тоже за тот посох схватился, и завстоловой сам не побрезговал руки марать — тоже.
Двинули они круто, а силы у них немерянные, мясо едят, — отпятили! Сверху вниз опрокинули передних на задних, на задних, прямо повалили, как снопы.
— Хромой грёбаный… в лоб тебя драть!.. — кричат из толпы, но скрываясь. Остальные упали молча, подымаются молча, поживей, пока их не затоптали.
Очистили ступеньки. Завстоловой отошёл по крыльцу, а Хромой на ступеньке верхней стоит и учит:
— По пять разбираться, головы бараньи, сколько раз вам говорить?! Когда нужно, тогда и пущу!
Углядел Шухов перед самым крыльцом вроде Сеньки Клевшина голову, обрадовался жутко, давай скорее локтями туда пробиваться. Спины сдвинули — ну, нет сил, не пробьёшься.
— Двадцать седьмая! — Хромой кричит. — Проходи!
Выскочила 27-я по ступенькам да скорей к дверям. А за ней опять попёрлись все по ступенькам, и задние прут. И Шухов тоже прёт силодёром. Крыльцо трясут, фонарь над крыльцом повизгивает.
— Опять, падлы? — Хромой ярится. Да палкой, палкой кого-то по плечам, по спине, да спихивает, спихивает одних на других.
Очистил снова.
Видит Шухов снизу — взошёл рядом с Хромым Павло. Бригаду сюда водит он, Тюрин в толкотню эту не ходит пачкаться.
— Раз-берись по пять, сто четвэртая! — Павло сверху кричит. — А вы посуньтесь, друзья!
Хрен тебе друзья посунутся!
— Да пусти ж ты, спина! Я из той бригады! — Шухов трясёт.
Тот бы рад пустить, но жмут и его отовсюду.
Качается толпа, душится — чтобы баланду получить. Законную баланду.
Тогда Шухов иначе: слева к перилам прихватился, за столб крылечный руками перебрал и — повис, от земли оторвался. Ногами кому-то в колена ткнулся, его по боку огрели, матернули пару раз, а уж он пронырнул: стал одной ногой на карниз крыльца у верхней ступеньки и ждёт. Увидели его свои ребята, руку протянули.
Завстоловой, уходя, из дверей оглянулся:
— Давай, Хромой, ещё две бригады!
— Сто четвёртая! — Хромой крикнул. — А ты куда, падло, лезешь? — И посохом по шее того, чужого.
— Сто четвэртая! — Павло кричит, своих пропускает.
— Фу-у! — выбился Шухов в столовую. И не ждя, пока Павло ему скажет, — за подносами, подносы свободные искать.
В столовой как всегда — пар клубами от дверей, за столами сидят один к одному, как семячки в подсолнухе, меж столами бродят, толкаются, кто пробивается с полным подносом. Но Шухов к этому за столько лет привычен, глаз у него острый и видит: Щ-208 несёт на подносе пять мисок всего, значит — последний поднос в бригаде, иначе бы — чего ж не полный?
Настиг его и в ухо ему сзади наговаривает:
— Браток! Я на поднос — за тобой!
— Да там у окошка ждёт один, я обещал…
— Да лапоть ему в рот, что ждёт, пусть не зевает!
Договорились.
Донёс тот до места, разгрузил, Шухов схватился за поднос, а и тот набежал, кому обещано, за другой конец подноса тянет. А сам щуплей Шухова. Шухов его туда же подносом двинул, куда тянет, он отлетел к столбу, с подноса руки сорвались. Шухов — поднос под мышку и бегом к раздаче.
Павло в очереди к окошку стоит, без подносов скучает. Обрадовался:
— Иван Денисович! — И переднего помбрига 27-й отталкивает: — Пусти! Чого зря стоишь? У мэнэ подносы е!
Глядь, и Гопчик, плутишка, поднос волокёт.
— Они зазевались, — смеётся, — а я утянул!
Из Гопчика правильный будет лагерник. Ещё года три подучится, подрастёт — меньше как хлеборезом ему судьбы не прочат.
Второй поднос Павло велел взять Ермолаеву, здоровому сибиряку (тоже за плен десятку получил). Гопчика послал приискивать, на каком столе вече́рять кончают. А Шухов поставил свой поднос углом в раздаточное окошко и ждёт.
— Сто четвэртая! — Павло докладает в окошко.
Окошек всего пять: три раздаточных общих, одно для тех, кто по списку кормится (больных язвенных человек десять, да по блату бухгалтерия вся), ещё одно — для возврата посуды (у того окна дерутся, кто миски лижет). Окошки невысоко — чуть повыше пояса. Через них поваров самих не видно, а только руки их видно и черпаки.
Руки у повара белые, холёные, а волосатые, здоровы. Чистый боксёр, а не повар. Карандаш взял и у себя на списке на стенке отметил:
— Сто четвёртая — двадцать четыре!
Пантелеев-то приволокся в столовую. Ничего он не болен, сука.
Повар взял здоровый черпачище литра на три и им — в баке мешать, мешать, мешать (бак перед ним новозалитый, недалеко до полна, пар так и валит). И, перехватив черпак на семьсот пятьдесят грамм, начал им, далеко не окуная, черпать.
— Раз, два, три, четыре…
Шухов приметил, какие миски набраты, пока ещё гущина на дно бака не осела, и какие по-холостому — жижа одна. Уставил на своём подносе десять мисок и понёс. Гопчик ему машет от вторых столбов:
— Сюда, Иван Денисыч, сюда!
Миски нести — не рукавом трясти. Плавно Шухов переступает, чтобы подносу ни толчка не передалось, а горлом побольше работает:
— Эй, ты, Хэ-девятьсот двадцать!.. Поберегись, дядя!.. С дороги, парень!
В толчее такой и одну-то миску, не расплескавши, хитро пронесть, а тут — десять. И всё же на освобождённый Гопчиком конец стола поставил подносик мягонько, и свежих плесков на нём нет. И ещё смекнул, каким поворотом поставил, чтобы к углу подноса, где сам сейчас сядет, были самы е две миски густые.
И Ермолаев десять поднёс. А Гопчик побежал, и с Павлом четыре последних принесли в руках.
Ещё Кильдигс принёс хлеб на подносе. Сегодня по работе кормят — кому двести, кому триста, а Шухову — четыреста. Взял себе четыреста, горбушку, и на Цезаря двести, серединку.
Тут и бригадники со всей столовой стали стекаться — получить ужин, а уж хлебай, где сядешь. Шухов миски раздаёт, запоминает, кому дал, и свой угол подноса блюдёт. В одну из мисок густых опустил ложку — занял, значит. Фетюков свою миску из первых взял и ушёл: расчёл, что в бригаде сейчас не разживёшься, а лучше по всей столовой походить-пошакалить, может, кто не доест. (Если кто не доест и от себя миску отодвинет — за неё как коршуны хватаются, иногда сразу несколько.)
Подсчитали порции с Павлом, как будто сходятся. Для Андрея Прокофьевича подсунул Шухов миску из густых, а Павло перелил в узкий немецкий котелок с крышкой: его под бушлатом можно пронесть, к груди прижав.
Подносы отдали. Павло сел со своей двойной порцией, и Шухов со своими двумя. И больше у них разговору ни об чём не было, святые минуты настали.
Снял Шухов шапку, на колена положил. Проверил одну миску ложкой, проверил другую. Ничего, и рыбка попадается. Вообще — то по вечерам баланда всегда жиже много, чем утром: утром зэка надо накормить, чтоб он работал, а вечером и так уснёт, не подохнет.
Начал он есть. Сперва жижицу одну прямо пил, пил. Как горячее пошло, разлилось по его телу — аж нутро его всё трепыхается навстречу баланде. Хор-рошо! Вот он, миг короткий, для которого и живёт зэк.
Сейчас ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, ни что день долгий, ни что воскресенья опять не будет. Сейчас он думает: переживём! Переживём всё, даст Бог кончится!
С той и с другой миски жижицу горячую отпив, он вторую миску в первую слил, сбросил и ещё ложкой выскреб. Так оно спокойней как-то, о второй миске не думать, не стеречь её ни глазами, ни рукой.