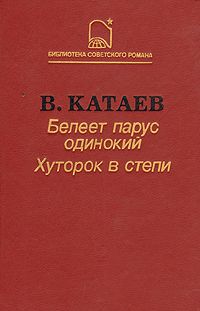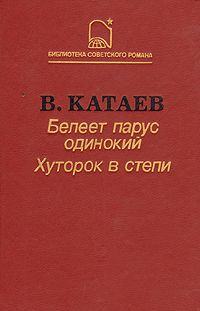Валентин Катаев - Белеет парус одинокий
18 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
– У тебя есть батько и матка? – Ни. – С кем же ты живешь? – С дедом. – А дед кто? – Старик. – Понятно, что старик, а не молодой. А что он делает? – Рыбу ловит. – Значит, рыбак? – Ну, рыбак. Рыбалка. – А ты что? – Хлопец. – Это ясно, что хлопец, а не девочка. Я тебя спрашиваю: что ты делаешь? – А ничего. Дедушке помогаю. – Стало быть, вместе рыбачите? – Эге. – Так-с. Понятно. Как же это вы так рыбачите? – А просто. Ставим на ночь перемет, а потом утром вытягиваем бычков. – Стало быть, выходите в море на шаланде? – Эге. – Каждый день? – Как это? Что вы спрашиваете, дядя? Я не понимаю. – Экий ты дурень! Я тебя спрашиваю: каждый ли вы день выходите в море на шаланде? – А то как же! – Утром и вечером? – Ни. – Что ни? – Только утром. – А вечером? – И вечером тоже. – Так как же ты говоришь, что только утром, когда и вечером тоже? – Ни. Мы вечером только ставим перемет. А бычков – тех вытягиваем утречком. – Понимаю. Стало быть, вечером тоже выходите? – Ни. Вечером только ставим. – Ой, господи боже! Но для того, чтобы поставить, ведь надо вам прежде выйти в море? – А как же! – Значит, вечером тоже выходите? – Ни. Вечером не вытягиваем. Вытягиваем только утречком. – А вечером выходите ставить? – А как же! – Стало быть, вечером тоже выходите? – Эге. – Ну, вот видишь, какой ты дурень! С тобой надо разговаривать, хорошенько накушавшись гороха. Ты зачем такой дурень? – Я маленький. Усатый господин посмотрел на Гаврика сверху вниз с нескрываемой насмешкой и слегка, но, впрочем, довольно-таки основательно щелкнул его по голове. – Эх ты, рыбалка! Но мальчик вовсе не был таким дурнем. Он сразу почувствовал в усатом хитрого и опасного врага. Ходит по берегу, выспрашивает про матроса. Только делает вид, что пришел пострелять. А на самом деле, кто его знает, что у него на уме. Наверное, какой-нибудь из сыскного. Еще, чего доброго, пронюхает как-нибудь, что именно у них в хибарке и скрывается беглец. Может, уже и проследил, не дай бог! Гаврик тотчас решил прикинуться совсем маленьким дурачком. От дурачка не много узнаешь. Мальчик тут же скроил глупую рожу, какая, по его мнению, должна быть у маленького дурня, выпучил бессмысленно глаза и стал преувеличенно застенчиво переминаться с ноги на ногу, ковыряя на губе заеду. Усатый, видя, что имеет дело с полным несмышленышем, решил сначала войти с ним в дружбу, а уж потом обо всем выспросить. Он не без основания полагал, что дети – народ любопытный и наблюдательный и знают лучше взрослых, что делается вокруг. – А как тебя звать, мальчик? – Гаврик. – Так-с. Стало быть, Гаврюха? – Эге. Гаврюха. – Ну, вот что, Гаврюха: хочешь выстрелить? Даже уши у мальчика и те покрылись горячей краской. Однако он тут же овладел собой и, продолжая изображать дурачка, пропищал совсем тоненьким голоском: – А у меня, дяденька, нету пятачка. – Это я понимаю, что у тебя нету капиталов. Ничего. Один раз можешь выстрелить, я заплачу. – Дяденька, а вы с меня не смеетесь? – Не доверяешь? Ну хорошо… Вот! С этими словами усатый выложил на прилавок большой, совершенно новый пятак. – Пали! Гаврик, задохнувшийся от счастья, нерешительно посмотрел на хозяина тира. Но у того на лице появилось уже строго официальное выражение, исключавшее даже самую возможность дружеских перемигиваний. Он посмотрел на мальчика, как на незнакомого, и, учтиво, склонившись над прилавком, спросил: – Из чего вы предпочитаете стрелять, молодой человек: из пистолета или же из ружья-с? Тут Гаврик и взаправду почувствовал себя дурачком – до того растерялся от так неожиданно подвалившего ему счастья. Он обалдело улыбнулся и, почти заикаясь, пролепетал: – Из монтекристо. Хозяин элегантно зарядил ружье и подал его мальчику. Гаврик, сопя, припал к прилавку и стал целиться в бутылку. Конечно, ему больше хотелось бы выстрелить в японский броненосец. Но он боялся промахнуться, а бутылка была большая. Мальчик старался как можно дольше растянуть наслаждение прицеливания. Поцелившись немножко в бутылку, он стал целить в зайца, потом в броненосец, потом опять в бутылку. Он переводил мушку с кружка на кружок, глотая слюну и с ужасом думая, что вот он сейчас выпалит – и все это блаженство кончится. Гаврик глубоко вздохнул, положил ружье и, виновато взглянув на хозяина, сказал усатому: – Знаете что, дядя: я лучше не буду стрелять, я уже все равно поцелился, а вы меня лучше угостите в будке зельтерской с сюрпризом. Вам же дешевле обойдется. Усатый ничего не имел против, и они, стараясь не глядеть на хозяина, на его презрительную и вместе с тем насмешливо-равнодушную физиономию, отправились к будке. Здесь усатый сразу проявил такую щедрость, что Гаврик ахнул. Вместо воды с сиропом, стоившей две копейки, господин потребовал не больше не меньше, как целую большую бутылку воды «Фиалка» за восемь копеек. Мальчик даже не поверил своим глазам, когда будочник достал белую бутылку с фиолетовой наклейкой и раскупорил тоненькую проволоку, которой была прикручена пробочка. Бутылка выстрелила, но не грубо, как стрелял квас, а тоненько, упруго, деликатно. И тотчас прозрачная вода закипела, а из горлышка пошел легкий дымок, действительно распространивший нежнейший аромат самой настоящей фиалки. Гаврик осторожно взял обеими руками, как драгоценность, холодный кипучий стакан и, зажмурившись против солнца, стал пить, чувствуя, как пахучий газ бьет через горло в нос. Мальчик глотал этот волшебный напиток богачей, и ему казалось, что на его триумф смотрит весь мир: солнце, облака, море, люди, собаки, велосипедисты, деревянные лошадки карусели, кассирша городской купальни… И все они говорят: «Смотрите, смотрите, этот мальчик пьет воду „Фиалка“!» Даже маленькая бирюзовая ящеричка, выскочившая из бурьяна погреть на солнце бисерную спину, висела, схватившись лапкой за камень, и смотрела на мальчика прищуренными глазами, как бы говоря тоже: «Смотрите на этого счастливого мальчика: он пьет воду „Фиалка“!» Гаврик пил и вместе с тем обдумывал, как он будет выбираться, если усатый снова начнет приставать с вопросами. У мальчика на этот счет даже созрел целый план. – Ну что, Гаврюха, понравилась тебе вода «Фиалка»? – Спасибо, дядечка, сроду такой вкусной не пил. – Я думаю. А скажи мне теперь: выходили вы вчера вечером в море? – Выходили. – Пароход «Тургенев» видели? – А как же! Он нам чуть было весь перемет колесами не покалечил. – Ас парохода никто не прыгал? Усатый смотрел на мальчика в упор черными мохнатыми глазами. Гаврик с трудом ухмыльнулся и преувеличенно возбужденно заговорил: – А ей-богу, прыгал! Чтоб мне пропасть! Он ка-ак прыгнет, а брызги во все стороны ка-ак полетят! А он как поплывет наразмашку!.. – Стоп! Да ты не брешешь? Куда ж он поплыл? – Ей-богу, не брешу, святой истинный крест! Тут Гаврик, хотя и знал, что это грех, быстро раза четыре подряд перекрестился. – Как поплывет, как поплывет… И мальчик стал, размахивая руками, показывать, как плыл матрос. – Куда же? – Туда! – Мальчик махнул рукой в море. – А куда ж он потом делся? – Потом его якась шаланда подобрала. – Шаланда? Какая? – Такая, знаете, большая – громадная очаковская шаланда под парусом. – Здешняя? – Не. – А какая? – С Большого Фонтана… А то, может, из Люстдорфа. Такая вся синяя-синяя и наполовину красная, громадная. Она его как подобрала, так сразу тем же ходом и пошла и пошла прямо на Люстдорф. Святой истинный крест… – Название лодки не заметил? – Как же, заметил: «Соня». – «Соня»? Прекрасно. Да ты не врешь? – Святой истинный крест, чтоб мне в жизни счастья не видеть, или «Соня», или «Вера». – «Соня» или «Вера»? – Или «Соня», или «Вера»… или «Надя». – А то смотри… Тут, вместо того чтобы расплатиться, усатый шепнул будочнику на ухо что-то такое, от чего лицо будочника сразу стало кислое. Затем он кивнул мальчику и торопливо побежал к подъему в город, как понял мальчик – на дачный поезд… Гаврик только того и дожидался.
19 ПОЛТОРА ФУНТА ЖИТНОГО
Надо поскорее предупредить матроса. Но Гаврик был мальчик смышленый и осторожный. Прежде чем вернуться домой, он отправился за усатым, издали наблюдая за ним до тех пор, пока собственными глазами не убедился, что тот действительно поднялся наверх и скрылся в переулке. Только тогда мальчик побежал в хибарку. Матрос спал. Но едва щелкнул замок, как вскочил и сел на койке, повернув к двери лицо с блестящими, испуганными глазами. – Не бойтесь, дядя, это я. Ложитесь. Больной лег. Мальчик долго возился в углу, делая вид, что пересматривает крючки перемета, уложенного «бухтой» в круглую ивовую корзинку. Он не знал, как приступить к делу, чтобы не слишком встревожить больного. Наконец подошел к койке и некоторое время мялся, почесывая одну ногу о другую. – Легче вам, дядя? – Легче. – Соображаете что-нибудь? – Соображаю. – Дать вам кушать? Больной, обессиленный даже таким коротким разговором, замотал головой и прикрыл глаза. Мальчик дал ему отдохнуть. – Дядя, – сказал он через некоторое время тихо, с настойчивой лаской, – это вы вчерась прыгали с парохода «Тургенев»? Больной открыл глаза и посмотрел на мальчика снизу вверх, внимательно и очень напряженно, но ничего не ответил. – Дядя, слухайте, что я вам скажу, – зашептал Гаврик, подсаживаясь к нему на койку. – Только вы не дергайтесь, а лежите тихо… И мальчик как можно осторожней рассказал ему о своем знакомстве с усатым. Больной снова вскочил и сел на койке, крепко держась руками за ее доску. Он не спускал с мальчика неподвижно расширенных глаз. Его лоб стал сырой. Однако он все время молчал. Только один раз нарушил молчание, именно тогда, когда Гаврик сказал, что у усатого на щеке был пластырь. В этом месте рассказа в глазах у больного мелькнуло какое-то дикое и веселое украинское лукавство, и он проговорил сипло, сквозь зубы: – Это его, наверно, кошка поцарапала. Потом он вдруг засуетился и, держась за стенку, встал на дрожащие ноги. – Давай, – бормотал он, бестолково тычась во все стороны, – давай куда-нибудь… За-ради Христа… – Дядя, ложитесь. Вы ж больной. – Давай… давай… Давай мою робу… Где вещи? Он, вероятно, забыл, что скинул верхнюю одежду в море, и теперь беспомощно шарил похудевшей рукой по койке, небритый, страшный, похожий в белой рубахе, и подштанниках на сумасшедшего. Его вид был так жалок и вместе с тем так грозен, что Гаврик готов был бежать от страха куда глаза глядят. Но все же, пересиливая страх, он с силой обхватил больного руками за туловище и пробовал уложить обратно на койку. Мальчик чуть не плакал: – Дядя, пожалейте себя, ляжьте! – Пусти. Я сейчас пойду. – Куда ж вы пойдете в подштанниках? – Дай вещи… – Что вы говорите, дядя? Какие вещи? Ложитесь обратно. На вас ничего не было. – Пусти. Пойду… – Вот мне с вами наказанье, если бы вы только знали, дядя! Все равно как маленький! Ложитесь, я вам говорю! – вдруг сердито крикнул мальчик, потеряв терпенье. – Что я тут буду с вами цацкаться, как с дитём! Больной покорно лег, и Гаврик увидел, что его глаза снова подернулись горячечной поволокой. Матрос тихонько замычал, морщась и потягиваясь: – За-ради Христа… Пускай меня кто-нибудь сховает… Пустите меня в комитет… Вы не знаете, где тут одесский комитет?.. Не стреляйте, ну вас к черту, а то весь виноград перестреляете… И он понес чепуху. «Дело плохо», – подумал Гаврик. В это время снаружи послышались шаги. Кто-то шел прямо к хибарке через бурьян, с шумом ломая кусты. Мальчик весь так и сжался, не смея дохнуть. Множество самых ужасных мыслей пронеслось у него в голове. Но вдруг он услышал знакомый кашель. В хибарку вошел дедушка. И по тому, как старик сбросил у порога пустой садок, как высморкался и как долго и ядовито крестился на чудотворца, Гаврик безошибочно понял, что дедушка выпил. Это случалось со стариком чрезвычайно редко и обязательно после какого-нибудь из ряда вон выходящего события, все равно – радостного или печального. На этот раз, судя по обращению к Николаю-угоднику, случай был скорее всего печальный. – Ну что, дедушка, купили мясо для наживы? – Мясо для наживы? Старик прозрачно посмотрел на Гаврика и сунул ему под самый нос дулю. – На мясо! Наживляй! И скажи спасибо нашему хрену-чудотворцу. Помолись ему, старому дурню, чтоб он лопнул! Наловить крупных бычков – это он может, а цены подходящие сделать на привозе – так это маком! Что вы скажете, господа! За такого бычка – тридцать копеек сотня! Где-нибудь это видано? – По тридцать копеек! – ахнул мальчик. – По тридцать, чтоб мне не сойти с этого места! Я ей: «За такой товар по тридцать копеек? Побойтесь бога, мадам Стороженко!» А она мне: «У нас бог до привозных цен не касается. У нас свои цены, а у бога свои. А если вы несогласные, то идите к жидам, может, они вам на какую-нибудь копейку больше дадут, только сначала верните мне восемьдесят копеек вашего долга!» Видели вы такое? Ну, не плюнуть за это в самые ее поганые очи? Так представьте ж себе, господа, что я таки и плюнул. Перед всем привозом не посмотрел и нахаркал! Истинный крест! Наплевал ей полные очи! Дедушка при этом стал поспешно креститься. Но он привирал. Никому он в очи, конечно, не плевал. Он только весь затрясся, побледнел, засуетился и стал швырять рыбу из садка в корзину мадам Стороженко, бормоча: «Забирайте и подавитесь. Чтоб вам от этих бычков повылазило!» Мадам же Стороженко невозмутимо пересчитала рыбу и протянула дедушке двенадцать копеек липкими медяками, коротко заметив: «В расчете». Дедушка взял деньги и тут же, весь клокоча от бессильного гнева, пошел в монопольку и купил за шесть копеек голубой шкалик с красной головкой. Он ободрал сургуч о специальную терку, прибитую на акации возле питейного заведения, и трясущейся рукой выбил пробочку, завернутую в тонкую бумажку. Он одним духом вылил в горло водку и «вместо закуски» вдребезги трахнул о мостовую тонкую посуду, хотя мог бы получить за нее копейку залога. Затем отправился домой, купив по дороге для внучка за копейку красного леденечного петуха на сосновой щепочке – ему все еще казалось, что Гаврик совсем маленький мальчик, – а также два монастырских, очень белых и очень кислых бублика для больного матроса. Остальные деньги он истратил на полтора фунта житного. По дороге его разбирала такая злоба, что он раз десять останавливался и плевал с яростью куда попало, будучи в полной уверенности, что плюет в поганые очи мадам Стороженко. – Святой истинный крест! – говорил он, дыша прямо в лицо Гаврику сладковатым запахом водки и суя ему в руку леденечного петуха. – Кого хочешь спроси на привозе – весь привоз видел, как я ей наплевал в поганые очи! А ты, деточка, скушай петушка, ничего. Он все равно как пряник. Тут старик вспомнил про больного и стал совать ему бублики. – Не трожьте его, дедушка. Он только что заснул. Пускай отдыхает. Дедушка осторожно положил бублики на подушку рядом с головой матроса и шепотом сказал: – Ссс! Ссс! Пускай теперь отдыхает. А потом, как проснется, будет есть. Житный ему нельзя: у него теперь кишки сильно слабые, а бублички можно, ничего. Полюбовавшись на бублики и на больного, старик покачал головой и заметил нежно: – Спит и ничего не чует. Эх, матрос, матрос, неважное твое дело! Он постелил себе в углу пиджак и лег отдыхать. Гаврик вышел из хибарки, огляделся по сторонам и плотно прикрыл за собой дверь. Он решил, не медля ни минуты, отправиться на Ближние Мельницы, к старшему брату Терентию. Это решение возникло в ту же минуту, когда мальчик услышал, как больной произнес в бреду слово «комитет». Гаврик не знал в точности, что такое комитет. Но однажды он слышал, как это слово сказал Терентий.