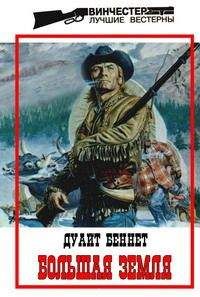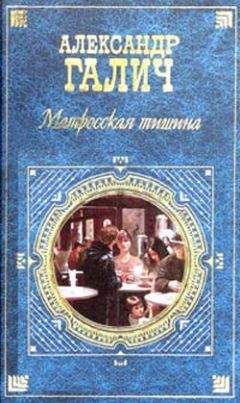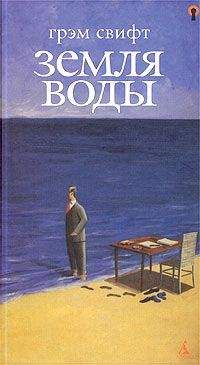Надежда Чертова - Большая земля
— Как пахота? — спросил Степан, скручивая цигарку.
— Коней мало, — не сразу откликнулся Николай. — Тянем помаленьку.
Степан зажег спичку и, забывшись, держал ее в растопыренных пальцах. Николай вдруг увидел, что Степан исхудал, а взгляд у него стал беспокойным и шалым.
Наконец Ремнев прикурил и жадно затянулся; оба присели на крыльце.
— С народом ладишь? — спросил Ремнев.
— Бывает, шумят. Баб в кулаке держу. Приходится.
— В округе банды шалят. Знаешь?
Николай кашлянул и, сдерживая знобкую дрожь, ответил:
— Нет.
— На отшибе живете, неправильно. — Степан грузно пошевелился. — С орловскими, слыхал, не поладили. Ну, а с ягодинскими? Ты к ним сходи, потолкуй: село бедное, деды крепостными были.
Степан наскоро рассказал, что в Утевке сильно шумят крепкие хозяева, но беднота держится твердо. Отряд чоновцев перешел на казарменное положение, по ночам приходится расставлять посты по дорогам.
— С фронта неважные вести идут, — неохотно добавил он. — Наши с поляками бьются на Украине. Не слыхал? Надо, брат, газеты читать. Пришлю вам из волости.
Они помолчали. Ремнев плюнул на окурок, смял его в пальцах и швырнул в темноту.
— Ты своим бабам скажи — скоро кумачу пришлю. Пусть кофты себе пошьют. А винтовки есть у тебя? — неожиданно спросил он.
— Две берданки да моя — русская. Патронов немного.
Степан досадливо крякнул, потом запустил руку в глубокий карман шинели и подал Николаю тяжелый наган.
— Мужикам своим про бандитов скажи, а женщинам — ни-ни! Без паники! — Степан глотнул воздух, словно ему нечем стало дышать. — Жилинских коммунистов, пять человек, порубали бандиты. Одна учителка там попала, молоденькая. Раисой звали…
Он порывисто встал и протянул руку Николаю. Молча прошли они садом. У амбара стояла лошадь Степана. Он подтянул подпруги, повернулся и нехотя, сквозь зубы, договорил:
— Поставили ее, Раису-то, на голову. Пополам разрубили.
Опустил чубатую голову и постоял перед Николаем. Тот понял: не все сказал его друг, самого главного еще не сказал.
— Ну? — спросил Николай, зябко поводя плечами.
— Мне грамотку подбросили. — Степан беспокойно пошевелил пальцами. — Твою, слышь, вот так же… это, значит, Татьяну. Порубаем, слышь. За все про все…
Он шагнул к Николаю и стиснул его руки с такой силой, что у того захватило дыхание.
— Мою-то Татьяну! — хрипло, с клокотанием в горле сказал Степан. — Мать моим малым… Да она мне, Николя, жизнь открыла. Я за каждый ее волосок… Какая мне без нее жизнь, а?
— А она что? — тихо спросил Николай.
— «Не боюсь, говорит, тебе, говорит, косу острую на шею накидывали, и то не убили. А я что? Я — малая земля».
— Золотая у тебя баба, Степа!
— Золотая! Да я без нее — половина. Теперь в волости работаю, в волкоме партии. Мотаюсь из Утевки в Ждамировку и обратно… Не хочет Татьяна в волость переезжать.
— Перевези ты ее с ребятишками к нам, в коммуну, а?
— Не поедет. Скажет, много от детей не наработаю.
— Да-а…
Они опять помолчали.
— Значит, на кровь повернуло, — тихо сказал Николай.
— На кровь. Ну что ж, померяемся… Когда-никогда.
Сказав это, Степан вскочил в седло, рванул повод и умчался в степь.
Николай вернулся в дом. Авдотья все еще сидела у окна.
— Убьют нас, матушка, — шепотом сказал Николай.
Она ответила не сразу:
— Одна смерть на веку.
Николай ничего больше не сказал. Он думал о том, что надо завтра же переговорить со всеми мужиками, раздать оружие, назначить ночные дежурства. Только Климентию, пожалуй, ничего не скажешь: меньше всего приходится верить старому валяльщику.
Тревога словно отошла от Николая, как только он решил, что именно следует сделать. Но сон сморил его только под самое утро. Заснув, он тотчас же заметался по нарам, заскрипел зубами. Авдотья склонилась над ним и принялась растирать больную ногу.
Она слышала разговор насчет бандитов и все поняла, все укрыла в своем сердце. Ни тени тревоги не коснулось ее. Она и сама не понимала, откуда взялось глубокое спокойствие, какое неизменно теперь испытывала. «Старею, что ли?» — подумывала она, удивляясь себе.
И все-таки Авдотья радовалась детским голосам, и колыханью трав, и высокому солнцу. А более всего любила степь. Подолгу сидя на крыльце с ребятами, она рассказывала всякие были и небылицы, не отрывая глаз от степи, где под ветром перекатывались зеленые волны трав.
Трава подымалась все выше. Зацвели медуница, кашка, колокольчики, начали наливаться первые ягоды — подоспела пора сенокоса. В кузне теперь с утра до ночи тонко звенело железо. И вот пришло утро, когда коммунары, мужчины и женщины, вскинули на плечи косы и отправились на луга.
А вечером, должно быть, после шумной бабьей ссоры, в кухню вошла Мариша Бахарева и тихонько позвала Авдотью на озеро:
— Привопи мне, матушка! Умру я с горя!
Авдотья отпрянула от нее, долго сидела молча, потом оправила платок и сказала с легким укором:
— Отвопилася я, Марья. Будет.
Мариша в отчаянии обхватила ее тонкими сильными руками и, плача, забормотала:
— Сама знаешь, куда я с такой оравой… Стараюсь, работаю, а бабы точат, хоть расшибись на маковы зернушки!.. Куда я теперь? Ни мужика, ни угла, ни притулья…
— По чем вопить буду? — упрямо и резко сказала Авдотья. — Глупа ты, Марья. То-то тебе доля была, когда изба твоя падала? Дурные языки осечь можно. Николай тебя за Кузьму вон как уважает. Мало ли у нас свары? Да что же, росток — он чуть поднялся, а корнем уж землю пронзил. Судьба нам с тобой на этом месте быть.
Наутро Мариша поднялась до света, схватила косу и ушла на самый дальний загон. Она косила, по-мужски развертывая сильные плечи. Солнце мягко грело ей спину, потом стало жечь голые руки и затылок.
В обед на загон неожиданно явился Павел Васильевич Гончаров. Он бережно нес заплаканного Кузьку.
— Отбилась ты от нас, Марья, — сказал он, сконфуженно протягивая ей мальчугана. — А Кузьма Кузьмич вот сильно ругается. Покорми его.
— Поорет да перестанет, — хмуро ответила Мариша и положила косу.
— К чему это? Или ты хочешь, чтобы дитя расстраивалось?
Мариша присела на скошенную траву и вынула худую коричневую грудь.
— Экой вырос долгоногой, а все сосет, — ворчливо сказала она. — Отымать давно пора бесстыдника.
— Не скажи, — мягко возразил Павел Васильевич. — У меня вон младшему третий годок пошел, а балует: отзовет мать в сторонку да сам вытащит… Хитер!
Кузька, сладко причмокивая, жмурился на солнце. Скоро он разомлел, стал заводить глаза и уснул, выпустив грудь.
Павел Васильевич молча протянул руки, принял Кузьку и пошел, немного волоча ноги.
Мариша быстро сунула косу под траву и крадучись шагнула вслед. Она осторожно припадала за кустарником, втягивала голову в плечи. Сложное чувство жалости, любопытства, удивления толкало ее вперед. Так дошла до озера и остановилась за крайним тополем. Здесь были слышны детские голоса. Мариша раздвинула редкий кустарник. Перед ней предстала круглая полянка, поросшая высокой травой. Она видела, как Авдотья взяла Кузьку, положила его в тень и накрыла своим головным платком. Павел Васильевич торопливо зашагал прочь.
Дети ждали, сцепившись за руки в хороводе. Они впустили Авдотью в круг. «Когда она успевает? — с недоумением подумала Мариша. — Верно, отстряпалась и цыплят откормила…» Вдруг она услышала тонкий, слегка дрожащий голос Авдотьи:
Во синем море
Корабель плывет…
Ребячий, похожий на свист суслика, голосок подхватил запев:
Корабель плывет,
А волна ревет.
Один за другим подстраивались голоса детей, и песня сладилась и уже звала к плясу. Авдотья слегка подтолкнула Дашку, та постояла в нерешительности, потом, взмахнув худенькой ручкой, легко пошла по кругу.
Детские голоса, слабо звучавшие в высоком и светлом просторе, пляска гибкой Дашки, тонкая ее рука, пронзающая воздух, светловолосая, словно девичья, голова Авдотьи были так удивительны, что Мариша прислонилась к тополю и закрыла глаза.
— Что ты? — крикнула ей кузнечиха. Она неспешно шла по дороге, закинув косу за плечо.
— Ничего, — медленно ответила Мариша. — К сердцу подошло.
Глава седьмая
В сумерках, перед стадами, Наталья часто отпрашивалась у хозяйки на берег Старицы то за полынным веником, то за щавелем.
Воды Старицы тихо стояли под зеленым непроницаемым камышом, берег порос высоким пыреем, единственный куст чилиги был осыпан мелким желтым цветом.
Торопливо наломав веник, Наталья притаивалась под кустом, срывала с себя платок и, простоволосая, жадно вытянув шею, прислушивалась к звукам, идущим с того берега. Каждый раз она со страхом ждала, что коммуна ответит ей мертвым молчанием: ей казалось, что, отчаявшись в своей неустроенной жизни, утевцы сложат скарб и уедут. Но еще издали она легко различала ребячий гам, мирные людские голоса, ржание лошадей.
![Джек Вэнс - Умирающая Земля. Сб. [Умирающая Земля. Машина смерти. Глаза Верхнего мира. Большая планета.]](/uploads/posts/books/60504/60504.jpg)