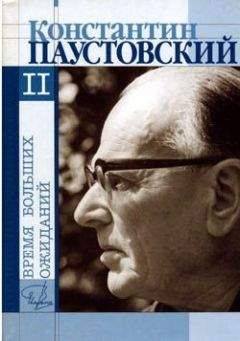Константин Паустовский - Том 1. Романтики. Блистающие облака
Первыми бежали Серединский и Наташа. Серединский бросился в лес, ломал кусты, ухал, кричал, изодрал о ветки лицо.
Потом бежал я с Ниной. Я далеко обогнал ее, она добежала ко мне, задыхаясь упала мне на руки, и сквозь тонкую ткань я почувствовал ее горячее бедро, ее дыхание обдало мне щеку. Подбежала Наташа.
— Нина, я схватила тебя, ты вырвалась. Это неправильно. Ступай гори.
— Я и так вся горю, — сказала Нина. — Довольно. Я не могу больше.
— Ну, сядь на пень и сиди. Отдышись.
Наташа взяла меня за руку, стиснула пальцы так, что хрустнули кости. Я вскрикнул.
— Твердая рука, — сказала она шепотом. — Мальчишеская слабая рука. Вам больно. Какой же вы моряк после этого?
Я отнял руку.
— Трудно бегать в темноте. Довольно! — крикнул я. — Роговин! Довольно.
— Ну, ладно, — ответил Роговин. — Отставить. Пойдем дальше.
Рука у меня ныла. Я закурил, зажег спичку. Увидел глубокую ранку от ногтя. Из нее сочилась кровь. Я перевязал ранку платком.
Я шел с Семеновым, он говорил мне что-то о Розанове, но я ничего не слышал, отвечал некстати, краснел в темноте. Надо подбить Роговина сейчас же уехать. Кажется, есть двухчасовой поезд.
Около реки сели на берегу. Сосны стояли над самой водой, вода журчала о корни, над лесом мигнула зарница. Все молчали.
— Вы, кажется, поранили руку? — спросила Наташа.
— Да. Я, кажется, запачкал кровью и вас.
— Как кровью?
— Так, очень просто.
— Посмотрим, — сказал Семенов и зажег спичку. — Смотри, Наташа, у тебя вся ладонь в крови. Здорово налетели, — сказал он мне. — Смотрите, весь платок мокрый. Должно быть, напоролись на сучок. Вы не шутите с такими вещами. Надо перевязать как следует.
— Доигрались, — сказал Серединский. — Я себе всю рожу изодрал. Максимов истекает кровью. Какой дурак играет ночью в горелки?
Наташа подошла ко мне.
— Давайте я перевяжу.
— Не надо, — сказал я резко. — Ради бога, не надо. Почему вы все всполошились? Пустяковая царапина.
Мигнула во все небо зарница, и глухо проворчал гром. В реке тяжело плеснула рыба. Сразу стихло, потемнело.
— Будет дождь. Пойдемте, а то захватит в темноте.
Снова мигнула зарница, явственней прогремел длинный гром, лес зашумел, — подул ветер.
— Роговин, — спросил я, — сейчас нет поезда на Москву?
— Есть.
— Да вы что, с ума сошли? — крикнула Нина. — Ночью под дождем ехать в Москву, да еще с окровавленной рукой.
— Я вас не пущу, — сказал Семенов. — Все ночуют у нас. На даче тесно, мы там оставим Любимова с Игорем и нянюшкой, а сами пойдем на сеновал, там тепло и сухо.
На обратном пути Наташа не сказала ни слова. Роговин шумно дышал, говорил, что слышит запах дождя. Зарницы были зловещи, верхушки сосен шумели, гром гремел над самой головой.
— Хорошо! — крикнул Роговин. — Ночью гроза в лесу. Слышите, как пахнет сосной, вот здорово. «Нас венчали не в церкви, не с попом, не с венцами», — запел он низким тенором.
Упало несколько капель, потом стихло, стало тепло и душно. На даче на веранде Наташа молча перевязала мне руку. Рука распухла, йод прожег ее насквозь. Я промолчал. Наташа подняла на меня холодные темные глаза.
— Вы ждете, чтобы я крикнул?
— Нет… Я думаю, что вы засорили рану.
— Очевидно, ногти не всегда бывают стерильными.
Она отвернулась.
— Как все это нелепо, — сказала она. — Нелепо и неинтересно. Вы болтаете глупости, я тоже; не нужно это. Зачем?
Шел шумный дождь, плескал по лужам у крыльца. Далеко за лесом мигали голубые зарницы.
Ночная встреча
Семенов перетащил на сеновал ковер, и мы по очереди перебегали под дождем. На сеновале было темно, тепло, над самой головой барабанил дождь. В окно были видны далекий огонь семафора, лес, звезды среди разорванных туч.
Рука набрякла, сильно ныла, хотелось лежать на сене, не вставая, сутки, недели. Дождь полил с новой силой.
Серединский тихо запел:
Мы никогда друг друга не любили
И разошлись, как в море корабли.
— В затрепанном романсе — и вдруг такой точный образ, — сказал я Семенову. — «Мы разошлись, как в море корабли». Вы знаете, как корабли расходятся ночью? Это очень тоскливо. Вы видите только бледные огни, они проплывают мимо, и неизвестно — кто там, куда они идут. Все долго смотрят, и лица становятся печальнее, строже. Матросы говорят: от ночной встречи заходится сердце. Один капитан рассказал мне чудесную историю о такой вот встрече.
— Расскажите, — попросил Роговин. — Под дождь хорошо слушать.
— Начало простое. Он полюбил. Это не была обычная морская любовь, двухдневная любовь в порту. Она была замужем. По его словам, она была прекрасна.
— Вы понимаете, — говорил он, — я весь дрожал, когда первый раз увидел ее у себя на палубе грузового, засаленного парохода. Мы стояли в Батуме. Мы только что возвратились из Владивостока. Она пришла ко мне и сказала:
— Я узнала, что вы вечером идете в Сухум. Возьмите меня, капитан. До завтрашнего утра нет пароходов, а мне надо попасть в Сухум возможно скорее… Ради бога, возьмите меня. Я заплачу за проезд.
— На грузовых пароходах мы денег не берем, — ответил он. — По вашему лицу я вижу, что вам нужно в Сухум до зарезу. У нас нет кают, но ночью я стою на вахте до самого Сухума и смогу вам предоставить свою койку.
Она смутилась и покраснела.
— Ничего, — ответил он. — Там ключ внутри.
— Капитан, я вовсе не считаю вас… Но мне стыдно занимать вашу койку. Вы отходите в восемь часов, в Сухуме вы будете завтра в полдень, — неужели у вас вахта длится шестнадцать часов.
Теперь покраснеть пришлось капитану. Она знала толк в морских порядках.
— Пустое! — пробормотал он. — Я рад уступить вам каюту. Даже больше, — я счастлив, что эта чертова конура хоть раз в жизни пригодится для молодой женщины.
Он понял, что сказал пошлость, опять покраснел и замолчал.
Через час она приехала на пароход. Кроме маленького чемодана, у нее ничего не было. Из осторожных расспросов выяснилось, что муж ее — инженер, сейчас он в Сухуме. Боцман Гнедюк говорил матросам шепотом: «Ну, прямо королева африканская, прямо королева». Кочегары вылезли из машины и, черные как черти, смотрели на нее. Помощник Ермоленко побледнел от потрясения и пошел в каюту выпить водки.
— Понимаете, — говорил капитан, — было такое чувство, будто в преисподнюю спустилась Элеонора Дузе (он ее видел однажды в Одессе).
Вышли из Батума. За Зеленым Мысом упала ночь, на море был штиль, — гудела машина, команда залезла в кубрик. В это время на мостик поднялась она.
— Можно мне побыть здесь? — спросила она капитана.
— Пожалуйста.
— Я вам не помешаю?
— Нет, что вы! Видите, — спокойно, как в комнате.
Она долго молчала. Потом сказала:
— Вы не сердитесь на меня, но я вас обманула. Мне захотелось проехать до Сухума на грузовом пароходе, чтобы быть одной, никого не видеть. Это каприз, и я очень недостойно солгала вам.
— Но вы и здесь не одна.
— Вы не в счет, — ответила она. — Я угадала, что вы идете в Сухум, от вас же, — вы сказали об этом пароходному агенту в кафе. Я сидела в тени за столиком, услышала и подумала: «Вот капитан с открытым лицом, он возьмет меня до Сухума, он, должно быть, застенчивый человек и не откажет мне». Я оказалась права.
Они долго молчали.
— Два румба на вест, — сказал капитан штурвальному.
— Есть! Два румба на вест.
— Так держать!
— Есть! Так держать!
Потом, уступая осторожным, но настойчивым расспросам, он рассказал ей свою жизнь. Гардемарином его выгнали из морского корпуса за пощечину офицеру. Он прошел тяжелую школу: плавал юнгой на греческих дрянных катерах, матросом на русских и французских парусниках, потом офицером на английском угольщике, где капитаном был моряк-писатель Стюард, приохотивший его к книгам. Он читал запоем, изучал Азию и даже написал книгу об Индо-Китае — нечто среднее между руководством для плавания у его берегов и очерками о быте, тайфунах, контрабанде, малайцах и опиуме.
— Вы странный моряк, — сказала она. — Вы соединили две лучшие профессии в мире — морскую и писательскую. Скажите, вы любили кого-нибудь?
— Кажется, нет, — ответил он и смешался. — Все время, знаете, плаваешь, женщин видишь только на берегу.
— Вам сам бог велел. Вы холостой, всегда в одиночестве. А вот я окружена мужчинами, замужем, а тоже еще не любила.
Они проговорили всю ночь. Из ее слов он понял, что она одинока, далека от мужа. Ему казалось, что теплота ее слов, низкий голос прикасаются к нему, как легкий мех. Она ушла в каюту только перед Сухумом.
В Сухуме стали на якорь. Он помог ей спуститься в шлюпку.