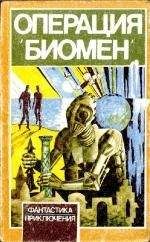Иван Свистунов - Жить и помнить
«Имени Тадеуша Костюшко», — вспомнил он слова диктора и повторил про себя: «Имени Тадеуша Костюшко! Здорово! Лучшего имени и не найти!»
В Польше, в родном шахтерском городке, был парк, и в нем на пригорке высились столетние дубы. Широко разросшиеся кроны закрывали полнеба, упирались в облака, могучие корни навечно впились в землю. Старики рассказывали, что под этими дубами отдыхал когда-то сам Тадеуш Костюшко со своими друзьями.
С детства Станислав привык гордиться старыми дубами. Часто бегал с братом Янеком в дубовую рощу. Играли в войну, в крестоносцев, в повстанцев Тадеуша Костюшко…
Теперь он будет сражаться под знаменем, на котором начертано славное имя!
Он бродил по прямым улицам далекого чужого восточного города, а все мысли были там, за Вислой, на родине, далекой и недосягаемой, как чужая галактика.
Снова вернулся на привокзальную площадь, к репродуктору: может быть, еще раз передадут сообщение о формировании польской дивизии.
Из черной граммофонной трубы репродуктора лихо неслись пронзительные голоса певиц из прославленного русского народного хора:
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.
А он стоял и ждал…
В тот же день он пошел в военкомат. В темных маленьких комнатках — полным-полно: шумливые подростки в рабочих с отцовского плеча спецовках (подумал: и они на фронт просятся), молоденькие девушки с санитарными сумками, женщины с побледневшими от горя лицами, инвалиды с обрубками рук и ног…
Старший лейтенант-танкист, с обожженным розовым лицом и пустым левым рукавом гимнастерки, заправленным под широкий армейский ремень, быстро дал справку: польская дивизия формируется под Рязанью, в Селецких лагерях.
— Классное местечко: Ока, сосновый лес, девчата веселые. Живи — не хочу! — расчувствовался старший лейтенант. — Я там в сороковом году на сборах был.
Получив проездные документы, Станислав покинул жаркий азиатский город с его прямыми улицами, крикливым базаром и черным вороном репродуктора на вокзальной площади. Снова ночные станции, забитые неизвестно куда едущим народом, тамбуры, подножки, платформы, буфера. Пересадки, проверки документов, очереди у дежурных военных комендантов, милицейские свистки — дорога!
Какой длинной ни была дорога, но и ей пришел конец. Станислав Дембовский добрался до тихого разъезда Дивово, что под Рязанью. С вещевым мешком за плечами соскочил с поезда. Огляделся. Пыльные пристанционные кусты черемухи, приземистые деревянные бараки, старые обшарпанные товарные вагоны в тупике да штабеля полусгнивших черных от мазута и времени шпал.
Пассажиров на станции сошло не много — человек шесть-семь, но все они показались Станиславу похожими друг на друга. А чем? Сразу и не поймешь. Одеждой? Нет, одежда на них самая разнообразная, как в театральном реквизите. Один в гражданском пиджаке, другой в военной гимнастерке без знаков различия, третий в крестьянской косоворотке, четвертый в защитной тужурке нерусского покроя. На голове красуются уборы различных фасонов: кепки, фуражки, шляпы, пилотки…
Но при всем разнообразии их туалетов нетрудно было догадаться — они прибыли на разъезд Дивово с той же целью, что и Станислав Дембовский: в польскую дивизию.
Собрались все вместе, расспросили у дежурного по станции, как попасть в Селецкие лагеря, и пошли узкой тропинкой через заливные тучнотравые луга. Вскоре вышли на берег сверкающей на солнце реки. Река была истинной красавицей. В пологих берегах она текла с державной неторопливостью. Величавое небо отражалось в ее голубоватой струе. Плавным течением, цветом воды, облаками, плывущими в глубине, река напоминала Вислу.
— Как название? — спросил он, и кто-то из шагавших сзади сказал со вздохом:
— Ока!
На маленьком пароме, которым ловко управляла грудастая девка, босая, с тугими, дочерна загоревшими икрами молодых сильных ног, перебрались на другой берег. Там, за леском, показались черепичные крыши бараков, палатки, палатки, палатки…
Услышали песню. За тридевять земель от Польши, среди бесконечных полей, на берегу русской реки со странным названием Ока звучал польский голос. Он пел об осоке, которая выросла на берегу, о соколе, который кружит высоко в небе, словно чует беду.
Странно было видеть и осоку на берегу, и то, что в небе высоко-высоко кружилась птица, — может быть, и впрямь сокол. А голос пел о том, что где-то далеко девушка ждет своего любимого, синеокого.
На мгновение показалось, что это голос самой Польши, Замученная, растерзанная, оплетенная колючей проволокой, окровавленная, она взывает к своим сыновьям, рассеянным по всему свету:
— Жду!
Тот, кто долго жил на чужбине, знает, как сжимается сердце, когда вдруг услышишь с детства родную речь. Станислав не отличался сентиментальностью. Вырос он среди людей труда, знал, почем фунт лиха, знал, как пахнет по́том сорочка шахтера после смены, знал, как тяжела черная рука с набухшими венами. Ему были чужды лирическая ипохондрия и слюнявая меланхолия. Все же, когда за тысячу верст от родного дома он услышал знакомый мотив, отвернулся в сторону, чтобы товарищи не увидели слез в его глазах.
Шагавший рядом сутулый пожилой мужчина, с усталым морщинистым лицом и запавшим ртом, шевельнул потрескавшимися губами:
— Hex жие Польска!
Машинально, как ответ на приветствие, Станислав проговорил:
— Hex жие!
Снова Станислав стал жолнежем. Жолнежем 1-й Польской дивизии имени Тадеуша Костюшко. Снова началась солдатская учеба. Те же стрельбища, полигоны, траншеи, те же винтовки, автоматы, гранаты…
И все же в Селецких лагерях все было по-другому, отличным от того, что он видел в армии Андерса. Новое заключалось в самом духе дивизии, в повседневных мелочах, которые в совокупности образуют то новое, что было и в обращении командиров с подчиненными, и в обращении солдат друг с другом, что создавало дух войска, его моральный облик.
В первый раз услышал он вместо обычного «пан» новое, странно звучащее обращение — «гражданин». Многие — и солдаты и офицеры — обращались друг к другу по-русски — «товарищ», и это слово приобретало теплоту и сердечность: «Товарищ!»
Почти каждый день Станислав видел высокого худого человека в полковничьем френче. Он ходил по ротам и взводам, беседовал с солдатами и командирами, давал указания, советы, расспрашивал их о семьях и родных. Озабоченность морщинила его худое, старое лицо. Это был командир дивизии полковник Зигмунд Берлинг. Говорили, что он польский кадровый офицер, был начальником штаба одной из дивизий в армии Андерса. Когда стал известен коварный план увода польской армии из СССР, он стукнул кулаком по столу и сказал примерно то же, что сказал своему командиру и Станислав Дембовский:
— В Иран не поеду. Предательству не обучен!
Это располагало Станислава к командиру дивизии. Хотя лично командир, видимо, даже и не знал о существовании жолнежа Дембовского, все же Станислав был рад: как-никак, а они с командиром дивизии — единомышленники.
Порой он вспоминал бывших товарищей — Хенрика Заблонского, Кобылинского, Мязгу… Вспоминал и подпоручника Будзиковского. Где он теперь со своими подергивающимися усиками и подбритыми сутенерскими бровями? На каком иностранном языке шепелявит?
Вспоминая подпоручника, думал, что вот такие будзиковские — большие и маленькие — в тридцать девятом году привели Польшу на край пропасти. Почему они отвернулись, когда Советский Союз протягивал польскому народу руку братской помощи? Почему поверили Чемберлену и Даладье? Заключили бы тогда договор с Советским Союзом, и, верно, все было бы иначе. Конечно иначе! Не лежала бы Речь Посполита растоптанная фашистской пятой, не текла бы Висла кровью, не скитались бы поляки по всему миру.
Но и теперь ничему не научились пилсудчики. Обжились в лондонских бомбоубежищах и мутят воду, торгуют жизнями польских патриотов. В такие минуты обычно спокойный и выдержанный Станислав чувствовал, как тяжелая злоба наваливается на сердце.
Однажды утром на плацу выстроили все полки дивизии. По тому, как суетились и нервничали офицеры, как старательно выравнивали строй, нетрудно было догадаться: предстоит что-то важное.
Так оно и оказалось. Загремел оркестр, и из штаба вынесли знамя дивизии.
С волнением смотрел Станислав на большое полотно, бьющееся на ветру, и все силился прочесть, что на нем написано. Но ветер колыхал знамя, и Станислав видел только отдельные буквы. Все же, улучив момент, прочел:
«За вашу свободу и нашу!»
Эти слова Станислав Дембовский знал с детства. Во втором или третьем классе прочел их в книжке по истории Польши.


![Вера Кауи - Любить и помнить [Демоны прошлого]](/uploads/posts/books/9379/9379.jpg)