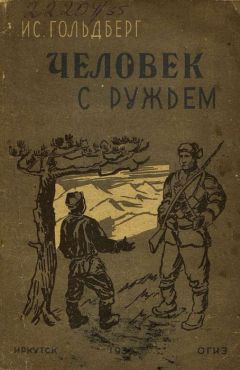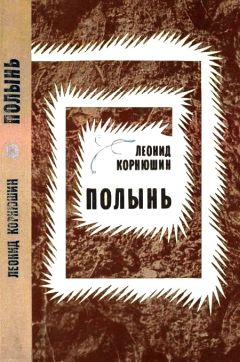Исаак Гольдберг - Сладкая полынь
Словно прорывается долго сдержанная сила: самые захудалые мужики, с гнилого угла деревни, ободранные, испитые и закорузлые в недостатках и в мелком пропое, вылезают вперед, неуклюже размахивают руками, стараются перекричать других. И в шуме и бестолковщине долго нельзя ничего разобрать и никто никого не слушает, и гомон стоит, как на самой свирепой сходке, когда делят покосы или наряжают гоньбовую очередь. Но в этой сутолоке выделяется несколько мужиков потолковее и сдержаннее, они урезонивают других, они расталкивают крикунов, одергивают их, толкуют им резонное и убедительное:
— Да тише вы, горлопаны!.. Этак прокричите без толку, а надо дело делать!.. Тише, говорят вам!..
И им удается установить порядок, а когда в сельсовете становится спокойно и толпа утихает, мужики жадно принимаются за дело. Неумело и сбивчиво облаживают они это дело, ощупью и беспомощно, но нутром и догадкой постигают они суть его. И, чувствуя свою неподготовленность, кто-то из мужиков в сердцах говорит:
— Ну и люди, едри их капалку! Ни писарь, ни председатель, ни одна собака не осталась людям подмогу сделать!
И так как он выражает общее чувство, то сразу со всех сторон прорывается и летит:
— По-омо-огут!.. Доржись крепче, чтоб тебе помогли!.. Кажный для себя смотрит!..
— И волостны тоже умные: чем бы послать кого помозговитей, а они бума-агу! А с ей, с бумагой тут и разбирайся...
Самосадочный, едучий дым треплется над головами рваными полотнищами. Дух в сельсовете навивается крепкий, непроворотный. Мужики потеют, мужики обламывают собственное, кровное дело.
Афанасий Косолапыч трется в самой гуще. Лохмы его трепещутся, как в вихре, его всего так и дергает от возбуждения, каждая жилка в нем ходуном ходит: у Афанасия Косолапыча словно праздник годовой: шутка ли? Каверза-то какая против его начальства завинчивается!.. Афанасий Косолапыч проталкивается к толковым мужикам, которые облепили стол и возятся с бумагой, шикают на нетерпеливых и беспокойных, руководят собранием и впитывают в себя и в себе преображают в законченный порядок суматошную и текучую волю окружающих. Вплотную притиснулся Афанасий Косолапыч к президиуму и непрошенно подает свой голос. От него отмахиваются, как от гудящего комара, его не слушают, но он упорен и неутомим. Он лезет со своими указаниями, со своими советами, он кипит и радостно волнуется.
— Я, — наседает он, — обчесгвенный человек! Я всякую казенную повадку знаю! Вы меня послухайте!..
А его не слушают, и непривычное дело, скрипя и застревая на каждом шагу, медленно и верно идет вперед.
Один только раз Афонькины слова ненадолго задерживают внимание мужиков. Насмешливо скривив лицо, он вдруг по какому-то поводу вспоминает:
— Пошто-же это я одноглазую-то, Ксению не оповестил? А ее онодысь проезжающий, камунист-то в самый этот трескон натокал! Верный, грит, она человек! Хо!..
— Зря не оповестил, — укорил кто-то Афанасия Косолапыча: — Баба малосильная да возле людей терлась, гляди — и польза от ей была бы!
— Кака от бабы польза?
— Да она, Ксения-то, от людей в стороне, прячется...
— Скиснительная, значит! Совестится.
— Чего совеситься? Мы понимаем! Не звери!
В президиуме застучали по столу:
— Гражданы! Оставьте об этих пустяках языки трепать! Займовайтесь делом! Начинаем на голоса ставить, кого в комитет для ведения руководства и прочего!
Имя Ксения тонет в деловом шуме, в мужичьей незлобной, но гомонливой перепалке.
11.Переночевав в городе, Архип прощается с сынишкой и отправляется домой. При расставаньи с Васюткой у мужика начинает немного подергиваться нос, и, скрывая предательское волнение, он с напускной суровостью наказывает:
— Доржись, Василей Архипыч! не сдавай! Пал Ефимыча пуще родителей слушайся! Выходи правильным и сурьезным человеком! Вот!..
Васютка отворачивается от отца и угрюмо — а за угрюмостью приглушенная ребячья робость! — обрывает:
— Поезжай!.. Ладно!.. Ты там поленницу-то с елани вывези. А то забудешь...
Уезжает Архип. Дорогой, в переполненном вагоне переваривает в себе все, что услыхал от Коврижкина. Ноет душа у него: скучно будет без парнишки, скучно будет без ворчливо-незлобливых окриков. Скучно. Но пусть, пусть идет парень по новой дороге, пусть выцарапывается в настоящие люди!
От Павла Ефимыча много корявых, занозистых слов наслушался Архип. Вечернее, когда оба напитались воспоминаниями и опьянели от них, начисто смыто было утром. Утром Коврижкин все припомнил Архипу: что он откачнулся от всякого дела, что запустил хозяйство, что не втянулся в мирские, крестьянские заботы.
— Зачем ты тогда и партизанить ходил? Не все ли тебе этак-то равно, что Колчак, что советская власть? — прижал его напоследок Павел Ефимыч.
Отгрызнулся Архип, уел его этими словами товарищ таежный, боевой, но в самом далеком и глухом уголке сердца почувствовал: а ведь прав, истинную правду разворотил Коврижкин!
И в этих горьких словах, которыми напутствовал его тот, Архип почти забывает всю горечь, с какою Павел Ефимыч говорил о Ксении.
В Остроге Архип у свата не задерживается и на сватовой лошади катит домой.
Дома Василиса жадно расспрашивает его про сынишку. Материнское сердце все хочет знать. Бабе мало того, что ей рассказывает муж, она засыпает его вопросами, перебивает его рассказ, взволнованно и горестно или радостно, смотря по тому, что говорит Архип, всплескивает руками и качает головой. А потом тихо плачет.
— Ну, пошло! — пренебрежительно отмахивается от этих слез Архип, но почему-то отворачивается от жены...
Проходят дни. В Архиповом обиходе ничего не меняется, только на Василисины плечи взвалено большое бремя: нет маленького и старательного помощника, Васютки. Дрова на дальней делянке лежат под толстым слоем снега, зерно на мельницу (последние остатки, пожалуй!) нужно было еще на той неделе везти, да мало ли крестьянских зимних работ надо переделать? И Василиса терпеливо тащит все на себе. А Архип бродит по соседям и толкует о том, как его Василей Архипыч выйдет в люди и станет настоящим городским, знающим человеком. И соседи снисходительно слушают его да посмеиваются.
Но через неделю какой-то случайный попутный человек привозит из города коротенькое письмо. Опять Аграфена, девка услужливая, приходит разбирать написанное, опять письмо оказывается от Коврижкина, от Павла Ефимыча. И пишет он по настоянию Васютки о Васюткиных заботах: как хозяйство вертится? вывез ли тятька поленницу с елани? здоров ли Мухортка?
Архип слышит Аграфенин голос, вычитывающий слова, написанные Павлом Ефимычем, но чудится ему, что это сам Васютка, смешно пыжась и хмуря брови, отчитывает его. Он наклоняет лохматую голову и бормочет:
— Опасается Василей Архипыч! Забота его долит!..
И вечером в тот же день говорит пред сном Василисе:
— Я, мать, на свету по дрова поеду. Кабы не растаскали...
12.Чадя прогорклым маслом, потрескивает немощный огонек пред черной иконой. Арина Васильевна чтит канун воскресный. Не столько для себя, сколько ради Ксении, старается крёстная угодить своему богу. Она наблюдает исподтишка за Ксенией, наблюдает с того радостного для нее дня, когда молодая женщина неожиданно согласилась поехать в церковь и пойти к попу. С того же дня Арина Васильевна и сама приналегла на богомолье; словно этим хотела пуще разжечь Ксеньин пыл. В вечерней тишине скупо звучат в избе редкие слова, которыми перекидываются обе женщины. У старухи легонькая тревога. Что-то смущает ее. Неуловимое и неясное.
— Я кудельки немного натрепала, — хлопотливо говорит она: — свезу сватье Фекле, у них не уродилась конопель.
— Вези! — вяло соглашается Ксения.
— А ты, нешто, не поедешь к обедне?
— Не знаю...
— Как же так? — Ты ж обещала батюшке!
— Обещала... А, может, и не поеду. — Упрямые звуки холодно звенят в голосе.
Крёстная обиженно и укорительно поджимает губы:
— Не ладно, ай, не ладно, Ксения!
Ксения молчит. Проходят томительные, настороженные минуты. Кажется, не будет ответа на горький возглас старухи. Но неожиданно в страстном порыве Ксения говорит и голос ее звенит, как туго натянутая тетива:
— Да ведь я для души!.. Душа моя томится!.. Так неужто я против себя пойду? Меня, может, не тянет сегодня туда?.. Зачем я себя ломать стану?! Зачем?..
Голос обрывается, и снова Ксения умолкает. Но Арина Васильевна, всегда такая покладистая, уступчивая и робкая, теперь вскипает. На морщинистом лице ее недоуменье, досада и гнев.
— Неразумная ты! — почти кричит она. — Как дите малое, то тебе это не ладно, то того подавай!.. Только бог дал тебе радость, обратил тебя к себе, а ты, эвон как, опять за старое! Совсем ты запуталась.
— Верно, крёстная, — покорно соглашается Ксения, — верно, запуталась я... Сама знаю свое горюшко...