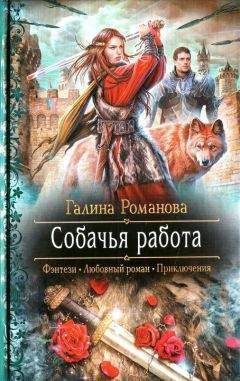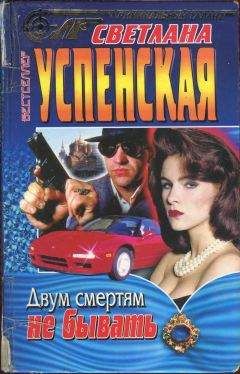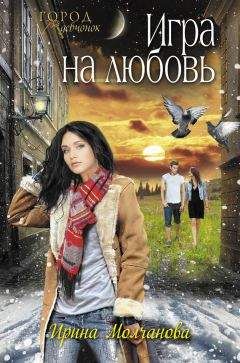Анатолий Димаров - Его семья
Поставив чемоданы чуть ли не на ноги Якову, парень выбежал из купе.
Вскоре он появился еще с одним чемоданом, сопровождаемый двумя совсем юными девушками.
— Тут будем, — сказал он им и посмотрел на Горбатюка живыми черными глазами. — Товарищ, вы немного подвиньтесь, а вы, девчата, садитесь.
Яков отодвинулся в самый угол, с интересом посматривая то на паренька, то на девушек. Находившиеся в купе пассажиры начали улыбаться.
Парень деловито умащивал чемоданы на верхних полках, а смущенные девушки стояли, не решаясь сесть.
— Садитесь, девчата, здесь за постой денег не платят, — снова пригласил их паренек, устраиваясь возле Горбатюка и сбрасывая серенькую кепку с куцым козырьком, какие только еще начали входить в моду.
Наконец все разместились.
— Леня, — отрекомендовался паренек, когда Яков спросил, как его зовут, и, покраснев, поправился: — Леонид Николаевич Москаленко.
Девушки прыснули, а Горбатюк, сдерживая улыбку, тоже назвал себя и подал ему руку.
Немного позже Яков узнал, что Леня окончил курсы журналистов и теперь получил назначение как раз в ту редакцию, где работал и он.
Москаленко жадно расспрашивал о редакции, о людях, работающих там. Засыпая Якова вопросами, он так торопился, точно боялся, что не успеет обо всем расспросить, а поэтому его иногда даже трудно было понять, и Яков вынужден был то и дело переспрашивать его, к великому удовольствию девушек.
— А вы, девчата, тоже в газету? — обратился к девушкам Горбатюк.
— Они в Киеве педучилище закончили, — ответил за них Леня. — Я им помогал садиться… Знаете что, давайте чай пить! — неожиданно предложил он и, не ожидая согласия, начал отвязывать чайник…
И сегодня, как только Горбатюк слез с полки, Леня, доставая большую жестяную кружку, спросил:
— Яков Петрович, чай будем пить?
Из уже стоявшего на столике чайника валил пар.
— Дай же хоть умыться, Леня! — засмеялся Яков, проникаясь все большей симпатией к этому неутомимому пареньку. — А где же твои девчата?
— Слезли, — коротко ответил Леня и кивнул головой в сторону окна с таким видом, будто девушки вылезли именно туда.
В течение всего дня Леня не отставал от Якова. И, отвечая на вопросы, сыпавшиеся, как из мешка, слушая торопливую речь, Горбатюк был благодарен юноше, что тот не оставляет его наедине с собой. Ведь Якова не только не направили на новую работу, но и не утвердили ответственным секретарем…
— Вот и наш город, Леня, — грустно сказал он вечером, указывая на множество огней, засверкавших вдали.
XXII
Прошло уже несколько дней после возвращения Горбатюка из Киева, а он все не заходил к редактору. Со всеми вопросами, касающимися газеты, Яков обращался к Холодову, а заметив в коридоре несколько сутулую фигуру Петра Васильевича, забегал в первый попавшийся кабинет, лишь бы не встретиться с ним.
Нелегко было Якову примириться с мыслью о потере реальной возможности просто и быстро порвать с Ниной, выехав на работу в другую область, а еще труднее — побороть в себе неприязнь к тому, кто лишил его этой возможности.
Он еще вчера написал заявление об уходе и через Тоню передал редактору.
Горбатюк знал, что Петр Васильевич не захочет отпустить его, так как в редакции не хватало опытных работников. Но вместе с тем Яков настолько сжился с мыслью об отъезде в другую область, что не мог себе представить дальнейшей работы здесь, тем более, что его не утвердили ответственным секретарем.
Поэтому он шел к вызвавшему его редактору с твердым намерением во что бы то ни стало добиться увольнения.
Петр Васильевич был один. Подойдя к столу, Горбатюк остановился, заложил руки за спину.
— Садитесь, Яков Петрович, — пригласил редактор с таким мирным видом, будто между ними ничего и не произошло.
Горбатюк молча опустился в кресло.
— Решили, значит, бежать, Яков Петрович? — спросил Петр Васильевич, взяв в руки его заявление.
— Да, решил.
— А вам не кажется, что вы совершаете большую ошибку?
— Не кажется… Тем более, что мы теперь уже не сможем работать вместе…
— Вы о том разговоре? — нисколько не обиделся редактор.
— О чем же другом…
— Да, я сказал все, что думал о вас, хоть и знал, что вы рассердитесь на меня. Конечно, можно было бы смолчать, тем более, что мы не работали бы вместе… Но я высказал свое мнение. Вас нельзя сейчас посылать на почти самостоятельную работу. Нужно обождать… А скажите мне, Яков Петрович, что сделали бы вы на моем месте?
— Петр Васильевич, я думаю, что после всего этого вам следует просто отпустить меня, — уклонился от прямого ответа Яков. Он уже не раз сталкивался с железной логикой этого человека и знал, что, если разговор будет продолжаться, редактор сумеет переубедить его. Поэтому, чтобы отрезать все пути к примирению, повторил: — Я считаю, что мы не сможем теперь работать вместе…
Редактор вышел из-за стола, пересел поближе к Горбатюку.
— Видите ли, Яков Петрович, — мягко сказал он, — я мог бы наговорить вам сейчас кучу глубоко принципиальных и очень правильных вещей. И о служебном долге, и о партийной совести, и о том, что остаться здесь — дело вашей чести… Да вы и сами не хуже меня знаете все это! Скажу лишь одно: если вы будете настаивать, я, конечно, не стану удерживать вас. Но мне будет очень больно, что вы не поняли меня, что человек, который стал для меня дороже всех в редакции, уехал отсюда моим врагом… Ведь мы хорошо работали с вами, Яков Петрович! Помните, как мы приехали сюда и вдвоем начали выпускать газету?
Задушевный голос Петра Васильевича успокаивающе подействовал на Горбатюка, и раздражение его стало утихать. В нем уже не было обиды, а только та душевная размягченность, которая иногда наступает после крайнего возбуждения.
— А где я теперь буду работать? — спросил он. — Секретарем меня не утвердили… Да я и сам теперь отказался бы, если б даже предлагали остаться…
— Это легко устроить, — повеселел редактор. Он откровенно обрадовался, что Яков уже не настаивает на своем увольнении. — Тем более, что к нам направляют двух выпускников партийной школы. Один из них — довольно способный парень. Попробуем его — в секретари, а вас — на отдел культуры.
— Кушнир там останется?
— Да, останется с вами.
— А куда вы думаете Москаленко? — вспомнил Яков своего попутчика. — Дайте мне. Все равно кому-то нужно будет учить его.
Петр Васильевич подумал и кивнул головой в знак согласия.
Разговор был окончен. Можно было бы и уходить, но Яков все еще сидел. Ему уже казалось, что он слишком быстро согласился на предложение редактора и тот не поверит теперь в искренность его прежнего намерения. Поэтому Горбатюк не забрал своего заявления об увольнении, а лишь сказал:
— Я еще подумаю, Петр Васильевич…
В приемной он увидел Леню, ожидавшего вызова редактора, и не выдержал:
— Будешь у меня работать! В отделе культуры…
Увидев, какой радостью загорелись глаза юноши, Яков окончательно утвердился в своем новом решении.
XXIII
На следующий день Горбатюк пришел на работу в двенадцать часов.
Перед тем он ходил за город, в один из небольших, мало посещаемых парков. Здесь не было ни посыпанных песком дорожек, ни беседок, ни даже скамеек. В парке росли сосны, березы и клены. Было очень рано и очень тихо. В небольших овражках все больше светлели тени, и чистые лучи утреннего солнца пронизывали воздух, пахнущий росой и зеленью. Стыдливые березки, похожие на юных девушек, старались прикрыть тонкими ветвями свои излучающие белый свет стволы. Стройные сосны стремительно тянулись ввысь, купая гордые кроны в прозрачной небесной лазури. Приземистые клены деловито ловили в широкие ладони солнечные лучи и совершенно не замечали своих соседок-берез.
Нигде так не чувствовалось мудрое спокойствие природы, как в этом заброшенном уголке. На фоне этих деревьев, этого воздуха, этой игривой смены теней и солнечных пятен, на фоне спокойной и ласковой тишины все, что волновало и мучило Якова, казалось мелким и несущественным.
Удивительное настроение овладело им. Ему уже казалось, что он — не Яков Горбатюк, а какой-то другой человек. И не был этот человек ни злым, ни добрым, не было у него ни дум, ни желаний, не знал он ни сомнений, ни обид, ни страха, ни разочарований — был спокоен, как эти деревья, и каждым нервом своим воспринимал величественную тишину природы…
На работе же Якову пришлось немало понервничать.
Все началось с проверки почты. Даже не с этого, а с опоздания Людмилы Ивановны. Она прибежала лишь в половине первого, красная и запыхавшаяся, и сразу же упала на стул.
— Ух, и жара же! — замахала она платочком.
Яков ничего не сказал, хоть ему и следовало сделать ей замечание за опоздание.