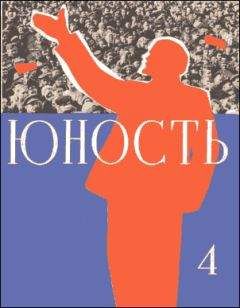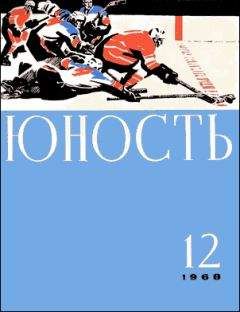Владимир Амлинский - Тучи над городом встали
— Узнаю. А вы чего волнуетесь?
— Сейчас только помешанные гуляют. У нас тут чего хочешь бывает. На днях одного эвакуированного раздели и шлепнули.
— Страсти какие! Короче, в чем дело?
Она все шла рядом со мной и все говорила, говорила и вдруг замолчала. Я снова засвистел художественным свистом «Санта Лючию». Она сказала:
— Если хочешь, идем ко мне. Рассветет — уйдешь. А не боишься этих — иди дальше. Дело твое.
— Боюсь этих, — быстро сказал я.
— Как хочешь, в общем. — Голос у нее вдруг стал сердитый. — Можешь у меня переждать, пересидеть на табуретке часа три до рассвета. Диванов всяких у меня нет. А не хочешь — иди домой, только я за тебя не отвечаю.
Я быстренько соображал. Отец будет психовать. Ладно. Пусть. Не все же ему возвращаться на рассвете. И вообще... Да, конечно... Иду к ней, хотя...
— Ты, я вижу, сам не знаешь, — сказала она. — В общем, привет, я пошла.
Я молча двинулся вслед за ней. Было зябко, мы шли быстро. Прошли двор, она первая поднялась на ступеньки, стала открывать дверь. Ключ долго лязгал, руки у нее, что ли, дрожали...
Наконец открыла. Коридор темный, узкий, длиннющий.
— Идем. — Она меня подтолкнула, но я на что-то наткнулся, то ли таз, то ли ведро, что-то загремело долгим жестяным тренькающим звуком. — Какой ты неловкий! — громко, сердито прошептала она. — Пошли.
Она пошла вперед, дала мне руку. Я крепко сжал ее руку. Чудесная у нее была рука, гладенькая, маленькая, как шоколадка. Она идет вперед, я за ней, вцепился в ее руку так, что ей неудобно идти. Она чиркает спичками. Коридор весь заставлен каким-то хламом. Вдруг из-за закрытой двери кто-то странным, плачущим голосом спрашивает:
— Степушка, это ты?
Она, не моргнув, спокойненько отвечает:
— Я, мамаш, я.
Я ей шепчу:
— Ты чего?
Она машет рукой: мол, потом. Наконец подходим к ее двери. Она открывает ключом, на этот раз быстро. Входим в комнату. Холодно здесь, как в погребе. Кто-то спит на полу под одеялом и тулупом.
— Это сестренка, — говорит она. — Нас уплотнили, все в одной комнате. Мы с ней на полу, а мать на кровати.
— А где сейчас мать? (Этот вопрос я давно хотел задать, но не решался: раз она не беспокоится, чего же мне?..)
— В ночной смене. В шесть придет.
Мне показалось, что она еще что-то хочет добавить насчет того, чтобы я в шесть смылся... Но она не добавила. Может, она матери не боится, а может, она и не думает ничего такого. И я не стал ни о чем таком думать.
— У вас тут Северный полюс.
— Да, мы уж привыкли. Мать вторую неделю бьется, ходит в завком: нету угля, и все. Хочешь, свет зажгу?
Я не ответил, а она уже зажигала какую-то лампадку. У них топливо совсем плохое было, фитилек еле горел на каком-то жире, все время загасал.
— Жмыху хочешь? — сказала она.
— Давай.
Она ушла, должно быть, на кухню, и теперь я мог разглядеть комнату. Комната походила на пенал: длинная и узкая. Неясно белела печка с толстой, уходящей куда-то под потолок трубой. Казалось, весь холод исходил от этой бездейственной, тускло светящейся, будто большой сколок льда, печи. Печи, которые не топятся, всегда так и тянут холодом.
Еще я заметил иконку, на нее косо падал свет из окна, и она золотилась на стене. В коридоре послышались шаги, и снова чей-то совиный, резкий голос спросил:
— Степушка, это ты?
— Я, — послышался Варин голос, а через секунду она отворила дверь в комнату.
— Слушай, кто это тебя Степушкой называет?
Она протянула мне кусочек жмыха и сказала:
— А это соседка Марфа Дмитриевна. Она всех, кто ночью придет, окликает... У нее младший сын был Степка, в пятом классе учился, отдыхать уехал куда-то в Россию, чуть ли не под Москву, а потом возвращался домой, и поезд немецкие самолеты накрыли. Вагон загорелся, а он как сиганет из вагона! И никто его больше не видел. Марфе Дмитриевне рассказали — так она ничего, даже не заплакала, только побелела сильно. И на работу пошла. А ночью все вскакивала и все окликала: «Степа, Степушка!» И с тех пор окликает, только теперь не встает, а на кровати лежит, шаги чьи услышит ночью, думает, ее Степа, и зовет... Ну, не станут же ей объяснять, в чем дело, откликаются... А днем она совсем нормальная, только ночью окликает.
Она замолчала и села на материну кровать, кровать заскрипела, застонала, сестренка сказала глуховато во сне: «Ты чего?» — и перевернулась на другой бок.
Варя встала, отдернула занавеску, в комнате посветлело, и икона перестала блестеть.
— У тебя что, мать верующая?
— Да нет. Так... Иногда. Об отце говорит иной раз, перекрестится.
Она замолчала, и я молчал: не знал, о чем говорить. По-моему, она хотела спать, она молчала как-то сонно, устало, а я молчал в странной и неприятной напряженности. Хотелось чего-то другого, чем то, что было, других разговоров, другой тишины. Но так уж пошло, и эта старуха с ее совиным голосом, и этот холод, и ледяная печка... Пожалуй, надо было идти домой. Я почему-то вспомнил тот вечер, когда Шеля уходила на фронт, как я пил спирт, и как мне было легко, горячо, и как я с ней танцевал. Сразу другим становишься, когда выпьешь, будто из другого теста тебя сделали. Вся тяжесть уходит, и ты как бы на коньках скользишь. Вот сейчас бы немного спирту!
— У тебя выпить нету?
— Откуда же? У нас не пьют. Вот когда Костю провожали — пили.
— Костя — это жених?
— А тебе что?
— Да так... А сколько ему?
— Сколько есть, все его.
Я представил себе, как в этой комнате было светло, горело несколько таких коптилок на жире, может, и керосину раздобыли для такого случая, и как они кричали, пели, а что они пели, не знаю, может, «Если завтра в поход», а может, «Тучи над городом встали...». Лучше бы пусть они пели «Тучи над городом встали...»: «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой, за далекой за Нарвской заставой парень идет молодой». Нет, лучше другой куплет, он больше подходит:
Приходи же, друг мой милый,
Поцелуй меня в уста.
И клянусь, что тебя до могилы
Не забуду никогда.
Вот я вижу, как они поют, а у него голосок ломкий, а глаза влажные, и весь он светленький, лет ему восемнадцать, всего на два с половиной года старше меня... Но он уходит на фронт, она ему поет и не плачет, держится, а все орут, голоса у них дикие, пьяные, я знаю такие голоса, а ее мать украдкой крестится, и какая-нибудь лампада все время гаснет, а он пьет спирт мелкими глотками, как Шеля... А что делаю я? Он уходит на фронт — это ясно, а что делаю я? Два с половиной года нас разделяют. Два с небольшим. Почему? Я не хочу. Почему не мне она поет, почему ему восемнадцать, а не мне, почему он уходит, а не я?
И вот я вижу, как голос у нее становится влажный, разбухший от слез, но она все еще поет, а слова не идут, а текут, как вода. И он ее целует, и тогда только она замолкает, и он ее снова целует в мокрые, блестящие щеки, в опухшие губы, в глаза. Целует так же, как, наверное, отец — Шелю, когда она уходила. Не знаю, как целуют, когда провожают на фронт... А что делаю я? Сижу в сторонке, пью кисель из порошка. Может, не кисель. Может, он расщедрится, даст мне наперсток спирту.
— Варя, а сколько ему все-таки лет?
Не отвечает. Я встаю со своего холодного табурета, подхожу к ней. Она как бы отъехала от стены, шея и плечи утыкаются в стену, а тело неудобно, нескладно, свисая, лежит поперек кровати. Она спит. Неудобно так спит. Руки лежат на коленях... Мне хочется чуть повернуть ее: ей ведь неудобно, очень неудобно так спать... И вот я неожиданно решаюсь, одну руку просовываю между стеной и ее плечами, другой беру ее за щиколотки и довольно легко приподнимаю. Она бормочет придавленно, неясно: «Ты чего, ты чего?» — но тело ее не сопротивляется, и какое-то мгновение я чувствую ее нетяжелую, теплую тяжесть. Я быстро кладу ее вдоль кровати. Я отхожу. Платье у нее задралось. Я подхожу и закрываю ее голые колени. Все это будто бы не я делаю, а кто-то другой, а я им только мысленно управляю.
Она постанывает чуть-чуть, я наклоняюсь над ней и подкладываю под ее голову подушку. Она дышит на меня каким-то детским теплым, молочным запахом. Мне ее стало вдруг ужасно жалко. Спящих всегда жалко. А ее особенно. Но на черта я ей нужен? Теперь я ее положил, подушку под голову подсунул, и можно мне идти домой... Небось, она думает: малолетка, ребенок... А я вот старше ее на тысячу лет, на целую огромную жизнь, вот сейчас она малолетка передо мной. Жалкая, спящая малолетка! И дышит, как малолетка. Молоком. Молоко на губах не обсохло... Рука свесилась вниз. И рука тоже как у малолетки, легкая, беспомощная. Ее руке, наверное, неудобно так висеть, надо взять ее руку и положить вдоль тела. Только положу руку и уйду...
Беру ее руку, очень так осторожно, как стеклышко. И вдруг чувствую какая-то дрожь проходит по всему ее телу, она сонно, слепо тянется ко мне. Я сажусь у изголовья кровати, задеваю торчащую из-под ее головы подушку, и подушка легко шлепается на пол. Что-то меня сдавливает, я снова вижу эту светлую комнату в неровном колебании десятка коптилок, и этого жениха, который целует ее в мокрое лицо, и я беру ее голову, кладу на свои колени. Секунду я сижу неподвижно, мне неудобно, странно и тяжело. Она поворачивается, ей, видно, тоже неудобно, она ложится на мои колени не затылком, а щекой. Я опускаю голову и утыкаюсь в ее теплую, с нежными вмятинками от упавшей подушки щеку и замираю так, и какие-то мысли быстро, ненужно, как пустая мельница, крутятся в моей голове. Они мешают мне. Если б не они, я бы замер навсегда в этой теплой, чуть пушистой щеке. Я приподнимаю ее голову на уровень своей груди и вижу губы, крупный четкий, красивый рот. Что-то меняется, я забываю нежность и слабость ее щеки, я вижу только этот неподвижный, темный рот, и я целую его долго, жестко, неумело, потому что не чувствую ничего. Только легкий привкус крови. И вдруг она обвивает руками мои плечи, быстро и сильно притягивает меня к себе, к своему лицу, к своим засверкавшим маленьким глазам.