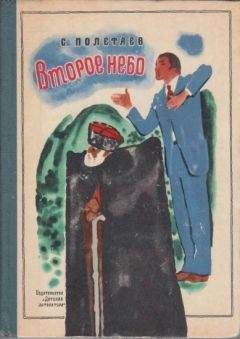Виктор Шкловский - О теории прозы
Надо считать. Это делают структуралисты. Перед этим надо читать.
Нельзя понять Достоевского, не зная эпохи, не зная беременность России великой революцией, и читать Толстого; не зная, что он говорит: социальная революция не то, «что может произойти», а то, что «не может не произойти».
Не зная этого, нельзя анализировать ни Достоевского, ни Толстого. Для чего Раскольников убил старуху такого роста и веса, что горло ее, старухи, было похоже на петушиное. Почему он ее убил топором? Ведь топор неудобно нести по улице, и у него не было топора. Раскольников должен был взять его у дворника. А старуху можно было убить камнем, гирей.
Что за этим стоит? Что стоит за необходимостью преступления? Почему Достоевский не использовал детективный роман, не спрашивал, кто убил, кто совершил преступление, а спрашивал, что такое преступление?
Когда Раскольников пришел на каторгу, то ему каторжники сказали: «Не барское это дело – ходить с топором».
Топор был единственным оружием крестьян.
Чернышевский звал к топору, топоры упоминаются и «Бесах».
Черт приходит к Ивану и говорит, что ему холодно. Он летел через воздушное пространство в костюме с бантиком, а хвостик у него был как у большой собаки. И он рассказывает, что там так же холодно, как в Сибири, где девки дают парню поцеловать топор, а губы примерзают.
Иван Карамазов в таком безумии, что он сам с собой разговаривает, спрашивает: какой топор?
И черт ему отвечает: топор, если имеет достаточную начальную скорость, будет спутником земли, и будут печатать в календарях: восхождение топора в таком-то часу, захождение топора – в таком-то часу.
Вокруг мира Достоевского и вокруг мира Толстого летает топор.
Повторю: у Достоевского был друг и недруг – Победоносцев.
Победоносцев похож на Великого инквизитора, на человека, который отнимает у людей сердце и свободу.
Но мы должны понимать, что никогда никто не стоит на месте.
Человек двигается толчками.
Секретарь Каткова Любимов говорил, что Победоносцев не сразу стал таким.
Не будем обвинять великого писателя за то, что его привлекают противоречия.
Противоречия – насущный хлеб великого искусства.
И его форма, и его содержание.
Эйнштейн как бы уже стал великим человеком тогда, когда ему было десять или двенадцать лет. Он получил компас, помните это место из «Автобиографии». И он удивился, как же без видимого приложения сил стоит стрелка в определенном положении.
Законы динамики – великие законы.
Когда Пушкин говорил, что он над вымыслом слезами обольется, когда Достоевский читал Толстого и спорил с ним, я не думаю, что они что-то исследовали. Ведь искусство само по себе рождается не для того, чтобы фотографировать людей и при этом закреплять их голову в ошейник на штативе, чтобы она была неподвижной.
Было такое приспособление в старых фотоателье.
Достоевский и Толстой никогда не разговаривали друг с другом, и ведь не случайно.
Достоевский писал о Толстом, и очень хорошо. Толстой никогда не писал о Достоевском, а говорил о нем правильно. Он говорил, что у Достоевского люди поступают всегда вдруг.
Это слово «вдруг» действительно присутствует у Достоевского постоянно. Толстой говорил, что человек должен сделать один поступок, а «вдруг» у Достоевского делает другой.
Но слово «вдруг» обозначает не только неожиданность. Оно обозначает совместное действие, неожиданное совместное действие.
Во флоте говорят «поворот всем вдруг!», и «вдруг» значит «вместе».
Мир Толстого и Достоевского был двойной.
Толстой знал, что социальная революция не наверное произойдет, а наверняка произойдет.
Но он существовал в старом мире и одновременно хотел в нем существовать и опять же одновременно спорил с ним, спорил с законами старого мира, отстаивая его законы.
Но существовал другой мир – мир Достоевского.
Вторая вселенная своего времени. И «вдруг» Достоевского – это вторжение того мира в этот мир.
Не надо думать, что искусство одноэтажно.
Противоречие появляется для того, чтобы выявить «вдругую» действительность.
Достоевский писал не только для своего времени, а для потрясенной земли, и его «вдруг» стало реальным.
Поэтому Достоевский стал писателем великого искусства. Меня интересует мир скрываемый, предсказываемый, предвиденный, анализированный, уже существующий в прошлом, но еще не выявленный.
Меня интересует мир и создание модели мира.
Эйнштейн говорил, что самое сильное впечатление его жизни был Раскольников, а второе – открытие закона относительности.
Литература изменяется, причем писатели знают своих предшественников.
У искусства есть два закона. Два явления.
Явление сегодняшнее и явление вечное.
Когда читаю Гильгамеша, повесть, которой, вероятно, семь тысяч лет, я ощущаю эту повесть как сегодняшнюю.
Искусство, именно оно потому искусство, что оно видит истины, которые не проходят.
Когда-то рак состязался с лисой в быстроте. И рак вцепился ей в хвост и висит на нем. Лисица прибежит, взмахнет хвостом, а рак отцепится и говорит: я здесь.
Мир болен однообразием, а искусство – это осязание мира. И познавать надо законы мира.
Не отказываюсь от слова «формализм», но в слово «форма» вкладываю то, что вкладывают писатели.
Почему Раскольников, гениальный человек, про которого говорит Порфирий: «станьте солнцем», почему он пошел на убийство этой старушонки? Потому что в мире нет правды. Потому что он Дон Кихот, только Дон Кихот был счастливее.
Анализировать надо движение, а не только спокойное состояние. Надо анализировать сознание художника, который сперва смеялся над Дон Кихотом, писал, что вставало солнце и растопило бы мозги идальго, если бы они у него были.
Чем дальше он едет, чем больше он совершает нелепостей, тем он умнее. Оказывается, он знает поэзию, знает латынь, он дает советы, он, как и сам Сервантес, сидел в тюрьме, Когда встретил партию каторжников, он судил их снова и простил, а они забросали его камнями.
Вот это – умудрение искусства.
Литература – это произведение искусства, она сама в ряду искусства. В ряду музыки, архитектуры, кино.
Структуралисты стараются понять литературу из законов слова, но мы-то начали с того, что слово различно; поэтическое слово – оно другое, чем слово прозаическое.
Писать романы трудно.
Писать трудно еще и потому, что писать надо дома, сидя на месте.
Как Пушкин говорил: «Я не хочу для России другой истории, чем ту, которую она имела».
Если вынуть свою жизнь из жизни своей страны – это трудно.
Я не формалист, я только человек, который написал об этом много писем. В том числе «и не о любви».
Я хочу разгадать тайну прозы.
Писатель говорит тайнами судеб людских.
Судьба человека, героизм человека – ассоциируются с полями, чертополохами и подрубленными снарядами деревьями.
Сюжет – это не рассказ о том, что случилось. Сюжет – это не рассказ о фабуле. Приходит промытая мысль через словесные барьеры, которые как бы замедляют строение мысли. Так подымают воду озера бобры.
Хочу рассказать, для чего сделаны сюжетные ходы. Для чего Робинзон попал на свой остров. Для чего Сильвио не выстрелил в своего врага и пренебрег кровью мужчины. Для чего человечество мягкими умными руками щупает будущее, берет его и оценивает, будет ли эта ткань хороша вновь.
Слова книг – это словеса, наполняющие библиотеки вселенной.
Книги – это построения, которые заново перетасовываются, построения человеческих судеб, использующих законы будущего, подготавливающих пересиливание смерти памятью.
И все мы дарим свое будущее еще не родившимся людям.
Вот что я хочу сказать в оправдание появления ОПОЯЗа. Мы всё хотели перестроить.
Все будет. Только не надо, когда кошка выносит котят на улицу, думать, что она ничего не понимает или не любит котят.
У кошек свой мир предсказания, возвышения и падения. И когда мир уложится в познании коротких и красивых по своей краткости форм, тогда воскресят Хлебникова.
И не будут ругать футуристов.
Эти люди, которые хотели записаться в будущее и нужны будущему, если не во взмахах воли, то в глубоких расселинах между волнами.
Вечным смыванием берега волны кормят разных не главных существ, которые не рыбы, но которые ощущают движение и жизнь воды как среды.
III
Но надо рассказать еще одну историю, она как бы параллельная, удваивающая.
Сергей Михайлович Эйзенштейн был из богатой семьи. Его мать была дочерью богомольной купчихи, умершей на паперти церкви, кланяясь. Отец, вероятно, из евреев, хотя и похоронен он на православном кладбище в Берлине.
Отец – Михаил Эйзенштейн – не был очень талантливым человеком, «хороший архитектор дурного вкуса». Был большим любителем женщин, большим любителем оперетты. Мать ссорилась с отцом. От этого странного брака родился Сергей Михайлович Эйзенштейн.