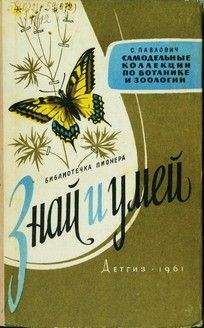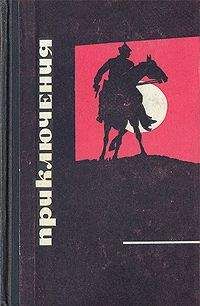Виктор Потанин - На вечерней заре
— Ира-а-аклий!!! Ну где ты, Ира-а-аклий?!
Я сразу узнал его, догадался. Этот голос пришел ко мне сегодня во сне, а потом и остался…
— Ира-а-аклий! Ты невозможный…
Я оглянулся и сразу встретился с ней глазами. Женщина тоже меня узнала. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на улыбку, какая-то тень потом промелькнула, но я уцепился за это, я замер — она узнала меня, узнала! И в ту же секунду я испугался: а что дальше, а что же дальше? И чтоб сбросить с себя всю тревогу, волненье, и чтоб ничего потом не видеть, не слышать, я нырнул глубоко, на два метра, и плыл так долго, самозабвенно, увязая в подводной гальке, а потом пулей выскочил наверх, потому что на грудь навалилась страшная тяжесть, и я подумал, что погибаю. Но никто не погиб, ничего не случилось. Солнце било мне прямо в глаза, и я повернул обратно.
Когда я вернулся, она уже стояла с сыном и что-то ему говорила. Я подошел поближе — она говорила про камни.
— Куриный бог — это к счастью… Вот возьми и запомни.
— Это мне? Целых три?
— Ну конечно, конечно, я куплю тебе завтра шнурочек. И ты будешь их носить на шнурочке.
— А зачем? Некрасиво…
— Глупый, глупый… Это очень красиво!
— Мама, я тоже нашел! — Мальчик наклонился и что-то поднял. Глаза у него сверкали.
— Глупый, это простая галька…
— А это?..
— Опять галька. Ты у меня невезучий. Но зато в жизни будешь везучий… Да, да! Я знаю.
— А это? — Мальчик опять теребил ее локоть.
— Ираклий, ты меня уморил. Надо лучше смотреть под ноги. — И она засмеялась, растрепала ему прическу. Глаза у ней стали совсем большие, веселые, и тоже сверкали. «Господи, как похожи они, как похожи…» — И опять во мне все застыло, все замерло — и та далекая, нежная поднялась во мне, сжала сердце. И только закрой глаза — услышишь дыхание. И мне казалось, что я его слышал.
— Мама, мама!
— Ну что тебе?
— А зачем эти камешки, мне и так хорошо.
— Ты смешной у меня. Ты смешной, дорогой… — И она грустно улыбнулась, откинула голову, а губы у ней слабо-слабо подрагивали и почему-то напоминали большой цветок. Но вот она тихо вскрикнула и что-то подняла из песка.
— Я опять нашла!.. Нет-нет, показалось мне. А все равно, какой гладкий, веселенький. Он похож на твой башмачок…
Но мальчик ей не ответил. Может, задумался, или стеснялся меня. И тогда я отвернулся, хоть и совсем не хотелось. И сразу мальчик что-то затараторил с матерью, но я не понял, они говорили уже на родном языке. А потом пошли вперед, не оглядываясь, и я закрыл от страха глаза, я боялся, что вот они уйдут и со мной случится что-то невыносимое. Но они ушли, а я продолжал дышать, только на грудь давила непомерная тяжесть, как там, глубоко в воде. Но и эта тяжесть прошла, и я посмотрел вперед. По воде носились барашки, и солнце скрылось, — и сразу на пляже стало ветрено и темно. Эта темнота шла с неба, от туч. Они возникли внезапно и теперь расползались по небу, как огромные спруты. И мне казалось, я думал, что эти тучи хотели расправиться с морем, потому море и показывало характер. Волны уже прямо наступали на берег, и последние купальщики нервно собирали свои сумки и поднимались вверх по каменной лестнице. Это походило на бегство. Вот и мальчишки тоже помчались в парк, за ними прыжками припустила собака. Вот и совсем пляж опустел, и я тоже пошел наверх по ступенькам.
В комнате сразу открыл окно, занавеска затрепетала от ветра. Потом я стал курить и ждать пароходик. Через пять минут на горизонте вырос дымок, и я успокоился. Пароходик плыл очень медленно, его покачивало на волнах, и мне казалось, что я на палубе вижу людей. Но я понимал умом, что их не увидеть. Но я все равно верил, надеялся…
А потом пароходик исчез, а радость осталась. Но это не радость даже — успокоение, потому что я себе загадал: если придет сейчас пароходик, покажется, то завтра снова увижу ее, увижу… И вот пришел пароходик, а завтра он снова придет, и снова… Значит, все возвращается — и пароходы, и люди, и даже любовь…
И спал я тихо в ту ночь, и всю ночь в окно мне шумели березы, а может, это море шумело, а может быть, ветер с близких вершин. Но что гадать, мне все равно было хорошо. И спал я, как в детстве, без снов.
А утром возле ворот нашего санатория случилась беда: машина сбила мальчишку. Говорят, он шел вместе с матерью, но потом его отвлекла чья-то собака. И он выбежал за ней на дорогу, и в это время — беда. Машина сбила и умчалась на Сухуми, а мальчишка сразу скончался. А другие говорили, что он еще немного дышал, шевелился, и его отвезли в больницу. Когда я туда побежал, народ уже расходился. И я хватал каждого за рубашку и кричал всем в лицо:
— Мальчишку звали Ираклий? Ираклий?
Меня оглядывали внимательно и отворачивались. Наверное, принимали за сумасшедшего. И когда я уходил от толпы, за моей спиной засвистели и кто-то бросил в меня булыжником. Он пролетел возле самой головы, и я пожалел, что промазали…
Я полдня ждал их на пляже, но они не пришли. А люди так же купались, кричали, а потом я увидел собаку. Это была та самая, с большими ушами, но сегодня она бегала одна, и я сразу понял… Так значит — Ираклий… И в голове поднялось: «Ну конечно, конечно, я куплю тебе завтра шнурочек. И ты будешь их носить на шнурочке…» — И в глазах у меня померкло.
А вечером я собрал свои вещи и пошел на поезд. Я не мог здесь, я задыхался… Я не мог и в поезде, и я чуть не сошел на первой же станции. И мне хотелось куда-то запрятаться, скрыться, но куда убежишь, куда скроешься… И я снова ехал, ехал, и колеса стучали: Ирак-лий! Ирак-лий!.. И я пытался что-то делать: или смотрел в окно, или брал газету, — но в глаза мне тоже смотрело что-то голубое-голубое, как полевая травка, как небо, — и я не знал, я не чувствовал, то ли это глаза матери, то ли сына, то ли то и другое вместе. И тогда я понял, поверил, что нельзя ждать возврата, что ничего в нас не повторяется — повторяется одно только горе. Но и то у него с годами меняются голоса.
— Ирак-лий! Ирак-лий! — гремели колеса. И это был голос моей запоздалой любви или горя, и я знал, что это навечно. Да и душа моя уже тянулась, рвалась обратно, и я знал, что она до конца переполнена и что мне надо, надо ей подчиниться. И надо, надо, ибо… Ибо когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет…
ОБЛАКА
Над деревней плывет густой зной, и кажется, что от солнца скоро вспыхнет трава. И тополям тоже жарко, невыносимо: о дожде они давно позабыли. Утомились даже собаки, залегли в подворотни и совсем перестали лаять. Одной Люсе весело, потому что любит жару…
Вот Люся вышла на крыльцо, потянулась и вдруг вспомнила, что сегодня еще не купалась. Сзади мать тихонько окликнула, но дочь уже ничего не слышит, не видит, — ее прямо тянет река. А через секунду Люся уже бежит за ограду. На улице все еще пусто, только ходит чей-то петух у забора. Но что петух, петух не преграда. И Люся бежит дальше, и волосы разметались, как парашютик. Вот она уже скатилась с горы, точно легкий упругий мячик, вот уже у самой воды она, и здесь только остановилась. Только зря Люся спешила — никого из подружек не видно. Зато на плотиках стояла соседка, тетка Марина. Она полоскала белье, а возле ног у ней прыгала Варька, маленькая рыжая собачонка. Но Варька только на вид такая веселая, молодая. А на самом деле ей уже шесть с лишним лет, как и Люсе. Для человека это, конечно, немного, а для собаки — полжизни…
Люся еще раз огляделась, и глаза у ней потемнели — одной ей расхотелось купаться. Потом тихонько окликнула Варьку. Собака только этого дожидалась и сразу бросилась к Люсе. Та погладила у ней за ушами — и Варька растянулась во всю длину на песке и скоро заснула. Спала она чутко и все время мыркала и стонала. А Люсе сделалось скучно. Подружки у ней не пришли, а тетка Марина не обращала внимания. И тогда стала думать, как бы ей попасть на тот берег. Но переплыть Тобол еще не могла, и оттого сильно страдала. А там по взгорью зеленела роща и лепились дома. И у каждого дома — свое лицо, свое выражение. Зато березы походили одна на другую, и все стояли в белых платьях до полу. Люся засмотрелась на них, но в это время затявкала Варька. Люся крутит шеей, ищет чужого. Но чужих не видно, значит, это Варька во сне, а может, ей голову накалило. Люсе еще сильнее хочется в воду, а подружек все нет и нет, зато на горе появляется сытый высокий гусь. За ним медленно выползает все гусиное стадо. Вожак идет не торопясь, вперевалку, совсем как киномеханик Геннадий Кармазов. И нос у него такой же красный, нахальный, и такая же высокая грудь под серой рубашкой. Люся загораживает ему дорогу и кричит громко, смеется:
— Куда пошел, дядя Гена? Я тебя не пущу, не старайся!..
Гусь на нее даже не смотрит. И тогда Люся кричит еще громче, даже щеки краснеют: