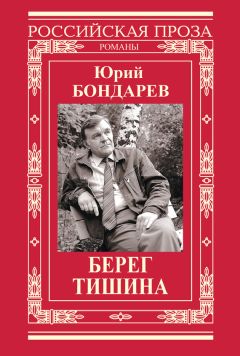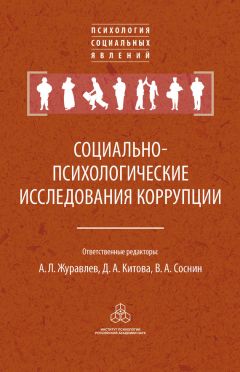Юрий Бондарев - Берег
— Моя мать умерла в тридцать шестом году, господин Никитин, — проговорила госпожа Герберт. — Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме… Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?
— Нет, нет, — ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность, и, злясь на себя, поморщился, потер лоб, неловко сказал ей: — Простите, голова… это пройдет…
— Вам принести таблетку от головной боли?
— Спасибо. Это пройдет.
Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами, обе ее руки лежали на альбоме, и тоже, чудилось, в робком замешательстве она молчала, медальончик на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием, и Никитин, вдруг остерегаясь ее готовности к чему-то, подумал, что она, видимо, не без колебаний, намерена сказать ему нечто новое, серьезное, важное, чего он может не знать, не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил, слыша неестественную спокойную нотку в голосе:
— Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется. Говорите же…
— Да, я хочу, господин Никитин.
Она взяла сигарету со столика; он предупредительно зажег спичку, она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом, потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко:
— Господин Никитин, вам знаком этот дом в Кёнигсдорфе? Вы его немного помните?
И тотчас из глаз ее ушла улыбка, в них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание — она глядела на небольшой снимок, размером отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу:
«Кёнигсдорф. Вильгельмштрассе, 7, наш дом».
Этот снимок был сделан до войны, время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось крепким, четким, и хорошо виден был двухэтажный дом, похожий на все добротные немецкие дома немецких городков, мансарда краснела черепицей в горячих лучах солнца, вблизи — сосны, утренне высвеченные на одной стороне стволов, лужайка перед домом, сочно-зеленая, подстриженная, посреди которой лежал велосипед, возле присела на корточки загорелая девочка-подросток, на ней спортивный костюм, под шапочку убраны короткие желтые волосы. Девочка присела над никелированным рулем, а он металлическими рогами торчал из травы, по-летнему густой, счастливой…
— Вам знаком этот дом, господин Никитин?
Два пальца госпожи Герберт, зажимавшие сигарету, лиловели лаком ногтей, как бы случайно прикрывали лицо этой девочки, показывая Никитину дом, — он, охваченный туманным и жарким беспокойством, словно усилием расталкивая наслоения памяти, внезапно ощутил когда-то сладостное дуновение смолисто-терпкого, прогретого воздуха, облитую полуденным весенним солнцем стену дома, открытое окно, за которым была полутемь прохлады, звук патефона доносился из глубины дома, и в такой же сочной зеленой траве валялся посреди лужайки сверкающий велосипед с изуродованными прикладом спицами.
Да, когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кёнигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки, только орудия батареи были вкопаны метрах в ста пятидесяти за яблоневым садом с направлением стрельбы на шоссе по берегу озера, и «студебеккеры» стояли незамаскированные под пятнистой тенью сосен. Да, в таком же доме размещался взвод Никитина, заняв четыре или пять комнат, и был во взводе английской марки («хиз мастерз войс») патефон и набор пластинок, взятых еще в Польше, на какой-то разрушенной вилле в лесу близ Варшавы, и чудом сохраненных и довезенных до Германии.
Но было тогда что-то ужасное, преступное и радостное, связанное со звуками патефона из открытого окна, с запахом травы и махорки, солнечным майским утром, и этими освещенными по одной стороне соснами, увиденными неожиданно им, нечто счастливое и нечеловечески жестокое, связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не повернула его жизнь в темноту, отделенную от всех неистовой злобой, любовью и жалостью.
Никитин помнил то ощущение конца войны и начала жизни, и ту свою неистовую одержимость жизнью, ликование молодости, и ту страшную серую стену, плотно замкнувшую его в те солнечные, тихие, зеленые дни за окнами добротного дома под соснами…
— Кто эта девочка? — глухо спросил Никитин и от удушья, от сердцебиения слегка выпрямился, чтобы в грудь больше вобрать воздуха; ему сейчас так нестерпимо захотелось увидеть лицо этой девочки, как если бы лицо ее могло ему многое объяснить, вернуть, напомнить навсегда ушедшее, прекрасное и страшное, расплывшееся, будто во сне.
— Девочка? — Пальцы ее, закрывавшие часть фотографии, заскользили, трепетно побежали по твердому листу альбома, и она вполголоса сказала: — Это я, господин Никитин.
— Вы? Это вы?
— На фотографии мне одиннадцать лет. В том году была одержана победа в Чехословакии, и мне купили велосипед. Отец очень любил и баловал меня после смерти матери…
— Ваш отец был уже в армии?
— Да… Посмотрите, господин Никитин, какой гадкий кенгуренок сидит в траве — руки длинные, плечи острые, весь из углов, фи, можно обрезаться!.. Подросток — неудачная пора девочки с манерами мальчика…
Нет, то было другое, он не помнил ни длинных рук, ни острых плеч, ни задиристого мальчишеского лица этой неуклюжей девочки-подростка, которой он никогда не видел. То, непостижимо связанное с обогретой солнцем лужайкой, соснами и велосипедом в траве, было такое пронзительное, такое мгновенно прошедшее, как давнее короткое потрясение, как горькая радость от чего-то свершившегося тогда, очень важного, главного, но упрятанного временем в памяти. И Никитин испугался мучительной жадности медленного узнавания, когда разглядывал дом, лужайку, сосны на фотографии, и вместе с тем он еще попытался зачем-то уверить себя, что это не совсем тот дом, не совсем та лужайка, не совсем те сосны, возвращенные изменчивой игрой ощущений, но уже знал, что, внушая самому себе сомнения, он не мог ошибиться, не мог обмануть свою память, отказаться от нее.
— Вы не помните этот дом, господин Никитин?
— В Германии мы не раз останавливались в таких домах, — сказал Никитин. — К сожалению, нет. Не помню.
Он так спокойно ответил ей, так решительно солгал, что опять почувствовал вцепившееся в горло удушье, недостаток воздуха и от сердцебиения и от ее долгого ошеломленного молчания, а оно, это молчание, физически давило на его плечи, на его грудь, на кожу лица, точно был миг совершенного им предательства, принятого ею, наверно, за ответ вялого равнодушия к тому, что он не держал в сознании или не хотел вспоминать: он имел право все забыть. И она сказала без особого выражения, однако голос ее в конце фразы подрезался до шепота:
— Да, да, господин Никитин, прошло столько лет. А в этом доме прошла моя юность…
Она судорожно затянулась сигаретой, сдула пепел с альбома и стала гасить сигарету, старательно приминая ее к донышку пепельницы, потупив глаза. А он с вежливым показным вниманием смотрел на фотографию в альбоме, ужасаясь и не веря тому, что подсказывала память, сравнивая вставшее словно из светлого тумана майского утра некрасивое, враждебное и прекрасное, как у мальчишки, лицо девочки, усеянное веснушками юной чистоты вокруг чуточку вздернутого носа, с этой взрослой утонченностью подведенных бровей фрау Герберт, ее маленьким ухом, видным из-за поднятых, стянутых сзади в пучок, побеленных аккуратной сединой волос, ее золотым медальончиком на груди, ее бледностью висков, на которых нежно проступали жилки… И в лихорадочном сопоставлении не находил ничего общего между той выдуманной воображением или забытой Эммой и этой фрау Герберт; казалось, бессмысленно сравнивал детский сон и близкую реальность.
«Сколько же мы стояли тогда в Кёнигсдорфе? — думал Никитин, потрясенно отыскивая в глубинах прошлого ускользающую прочность того весеннего, далекого, почти недействительного. — Мы стояли там недолго, несколько дней, около недели. Так неужели фрау Герберт та самая Эмма? Неужели? Ей тогда было лет восемнадцать. И все, что произошло между мной, сержантом Межениным и командиром батареи Гранатуровым, было из-за нее? Не может быть! Как она меня узнала, если мы оба так изменились? В зеркало бы, в зеркало бы на себя посмотреть сейчас — седые виски, морщины под глазами!.. Как она могла узнать меня? Каким образом она узнала?»
— Господин Никитин… вы меня забыли, прошло столько лет… А я помню, как вы ночью и утром писали на бумаге: «До свиданья, Эмма». До сви-дань-я-а…
Этот голос фрау Герберт, сниженный, протянувший по слогам последнее слово, душно ожег его знойной волной, как в то невозможно давнее горячее военное утро под накаленной солнцем крышей мансарды, — ведь тогда перед распахнутым окном он сидел с нею за столом и по буквам выводил русские слова на теплом белом листе бумаги, внизу возле дома уже не было машин, и лишь на лужайке ждал его «студебеккер» четвертого орудия, ждал, работая мотором, оттуда доносились голоса солдат, которые весело кричали им вразнобой: «Эмма, ауф видерзеен! Товарищ лейтенант, ехать пора!»