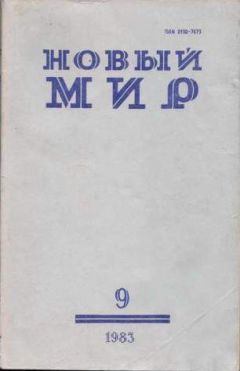Анатолий Ткаченко - Знаменитый Шелута
— Ты меня знаешь?
— Не-е.
— Шелута.
— Вон как! Тогда будем!
За окнами еще сеялся иней, оседал на деревья, кусты, сугробы. Все было белым, пушистым, погруженным в дремоту, в снега. Невольно думалось: «Ах, какие снега! Снежный потоп, снежная гибель». И тишина. С ума можно сойти от такой тишины. Даже два невнятных голоса, Шелуты и мужика, казались спасительной музыкой в этой тишине.
Скоро подойдет поезд, и я поеду на север, в Оху. Ехать часов двенадцать. Продержусь на карамели. В Охе ждет меня перевод, будут деньги на еду и не будет Шелуты. Нет, я не сердился на него — это все равно, что сердиться на гиблый снег за окном, — просто я устал от Шелуты. Как от ноши, которую нести тяжело и бросить нельзя. Его надо принимать малыми дозами — тяжеловатый он человек. И хотелось легко, дружески расстаться с ним, я придумывал слова, жесты, улыбки, но чувствовал, что устал, ничего не получится. Будет все так, как будет, как захочет Шелута. На том и задремал, придавив руками пустой живот. И привиделся мне сон: большие куски оленьего мяса в кастрюле, большие куски сырого оленьего мяса в магазине по шестьдесят копеек кило-грамм.
Проснулся оттого, что кто-то нагрел мне бок, горячо дышал в лицо. Присмотрелся. Надо мной сидел Шелута и плакал. Всхлипывал, сотрясаясь плечами, бурые щеки были мокрые, чуб растрепан.
— Ты? — спросил я. — Плачешь?
— Плачу.
— Что с тобой?
— Ничего. Глянул — ты спишь. И такой бледный, худой, на руках жилки видать. А я тебя мордовал, по сопкам, по тайге. Зачем? Ты же хороший человек. Ты мне нужен. Я люблю тебя. Сразу, с первой встречи полюбил. Потому мордовал — характер зверский…
Я поднялся, сел на лавку.
— Брось ты, от водочки все…
— От водочки, правда. Она помогла. Гляну на тебя — и плачу. О себе думаю. Кто меня сделал таким? Знаменитым. Шелута, Шелута! Зверь — Шелута! Бабник — Шелута! Герой — Шелута! Убить может, ножом пырнуть может Шелута! Корешок… Нет, не то слово… Человек ласковый, послушай меня. Врут не они, я первый вру. Вру — они радуются.
Шелута достал платок, отер щеки, лоб, высморкался, но слезы опять до краев заполнили глаза, взгляд сделался мутным, как у незрячего.
— Им нужен Шелута. Они придумали для себя Шелуту. — Он наклонился к моему уху. — Чтобы самим легче жить было. Завидовать Шелуте, списывать на Шелуту, пугать Шелутой. Они меня не выпустят. До смерти. Понял?
— Кто?
Шелута развел широко руки, охватил пространство, тряхнул ладонями.
— Они все, кореша. — И шепотом, наклонясь: — Я боюсь их. Да, да… Потому останусь Шелутой. А тебе вот что скажу…
Вбежал мужик в стеганке, запальчиво крикнул, что поезд приближается, достал из-под лавки мешок, и вместе мы вышли на деревянную площадку-перрон. Поезд скрипуче затормозил, мужик всунул в узкую дверцу теплушки мешок, юрко протиснулся сам, а я стал на подножку вагона.
Шелута цепко держал мою руку, смотрел мне в лицо. Впервые я заметил, что глаза у него детские, голубенькие, часто мигающие. Глаза удивительной чистоты, наивности, смущения. И сначала в них, а потом на губах медленно появилась улыбка. Улыбка обиженного, но уже простившего всем дитяти.
— Ты что-то хотел сказать, — напомнил я.
Поезд неспешно тронулся. Рядом пошел, ускоряя шаг, Шелута.
— Хотел, да. Сделай из меня… Нет, не то. Совсем не то… Вот что. Когда-нибудь, приезжай, а? За мной. Через несколько лет. Возьми меня отсюда. Увези. Дай слово.
— Хорошо.
Шелута отпустил мою ладонь, замер на месте, ссутулившись, и его, как занавесом, закрыл белый лиственничный лесок.
Через несколько лет я узнал, что Шелута погиб на охоте.