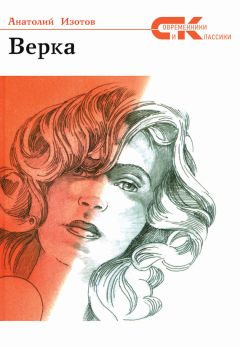Виктория Беломлинская - Обитатели
— Ты что здесь делаешь?! Хочешь, чтоб мне Зальцман за тебя голову оторвал? Давай кончай и заходи ко мне. Ну, я зашел, мы с ним хорошо посидели и я пошел домой. Вот так получилось несправедливо…
Что–то перепуталось в мозгу старика и ему действи- тельно кажется, что с ним приключилась какая–то несправедливость и кто–то в ней виноват: он ждет сочув- ствия и понимания…
Серафиму, вдову скрипача, он узнал еще в Челябинске, куда она была эвакуирована с мужем. Тогда она была не то, что теперь: волосы — это были волосы, а не перекрашенные патлы; фигура — это была фигура, а не то, что теперь — теперь это ваза горлышком вниз: ноги тонкие, зада нет, зато живот и толстая круглая спина.
А когда–то в этой вазе стояли цветы! А сколько он передарил ей бриллиантов? Теперь даже не узнаешь, где они. Но что ему было делать? Когда кончилась война и Симочка с мужем вернулись в Ленинград, он поехал за ней — у него никого не было в целом свете — только она. В крупные фигуры в ленинградском торговом мире он не вышел — другие времена пошли — но кое–что у него еще водилось, и Симочка была ему рада. А теперь возит его с собой на дачу только потому, что на двоих получается дешевле комната — теперь они деньги считают врозь.
Теперь, когда у него только и осталось, что пенсия. И она каждый раз устраивает скандал из–за сдачи: «Я тебе дала рубль: масло — тридцать шесть копеек, сыр сто грамм — тридцать копеек, батон — тринадцать — это семьдесят девять копеек, а где еще двадцать одна?» А он не знает, ему кажется, что он отдал — у него их нет. Стыдно перед соседями, у него делается от этого сердечный приступ. А она кричит: «Ты бы еще больше жрал! Если бы я съела столько оладий, у меня тоже сделался бы сердечный приступ!» Черта с два, она здоровая, как лошадь.
И даже Эда удивляется, зачем эти старые люди живут вместе, если они и чайку вечером не могут попить ладом. Серафима по–старушечьи копит всякую ерунду: пакетики из–под молока, коробочки от плавленых сыр- ков, баночки и бутылочки от лекарств. «Ты когда–нибудь выбросишь это дерьмо? — спрашивает он ее. — Или ты повезешь это с собой в Ленинград?» И она немедленно бойко откликается: «Если я такое дерьмо, как ты, повезу с собой в Ленинград, так уж это наверное…» — и начинается длинная перебранка на весь вечер, хорошо слышная мне через фанерную стену.
Я живу в Нинкиной комнате и, по правде сказать, если бы моя жизнь, также, как жизнь других обитателей этого дома, была на виду — они так же не поняли бы ее смысла, как я силюсь и не понимаю смысла их бедных жизней; а если бы вдруг поняли — вот уж посмеялись бы надо мной вдоволь, а может быть, ужаснулись бы и пожалели меня не меньше, чем я их. С трудом превоз- могая себя, я невнимательно, зато с чувством постоянной вины, слежу за ростом моей дочери, позволяя ей болтаться во дворе с сопливыми и желудочными Сашкой и Ленкой, только чтобы высвободить время и склониться над стопкой бумаги.
Я пишу, выколупывая из сердца слова, как из плохо расколотого грецкого ореха выколупывают полезные и вкусные кусочки мякоти — с трудом и наслаждением. Но сколько бы я не писала, рассказы мои никому не нужны — редакции их не берут и ничего, кроме муки, они мне не приносят, заражая меня тоской и болью моих героев — но мука эта нестерпима только потом, когда рассказ уже закончен, когда отхлынет волна горячей радости труда. А в преддверии нового рассказа я сильно напоминаю себе алкоголика — от того, наверное, мне так легко понять входящего к нам на кухню по вечерам Игорька.
Правда, ему хуже, чем алкоголику, он чифирщик, хотя и от водки не откажется, но его организм никогда не знает ни пресыщения, ни покоя. Чифиря, чем больше пьешь, тем больше нужно. Он дергается, корчит рожи, обнажая при этом желтые распухшие десны с торчащими огрызками зубов. Один глаз у него беспрестанно подмигивает, а другой по- бешеному круглится. Чифирь он себе варит сам в поллитровой алюминиевой кружке, в которую ссыпает полторы–две пачки чая, и долго кипятит на газе.
Но иногда он доходит до того, что руки прыгают и кружку до газа не донести — тогда он зовет меня, садится прямо у порога на пол и ждет. Едва пригубив из кружки, начинает хмыкать, хихикать по–дурацки, шумно глотать слюну, и над расхлобыстанным воротником грязной навыпуск рубахи начинает туда–сюда ходить его острый голодный кадык. Кожа на лице у него не красная, как у алкоголиков, а желтая, испитая и весь он, как начифирится, становится крученый–верченый.
Ни Эдка, ни Нинка брату никогда в пачке чая не отказывают, даже специально припасают и причин для того не одна. Во–первых, бесполезно, да и опасно отказывать, а во–вторых, обе они люто ненавидят его жену Валюшу и накачивают его ей назло. Есть еще и третья причина, но она потайная, совсем бессознательная и связана с последствиями. А эти сами по себе, и тут все дело заключается в том, что и Эда и Нинка еще больше, чем ненавидят, боятся Валюшу, и единственно, в чем решаются проявить свое отношение к ней — так это в том, что всегда потрафляют брату.
Она с ним не живет, хотя зимой он перебирается из своего сарайчика в комнату — она по этому поводу без конца пишет заявления и ходит по инстанциям, но ей отдельной жилплощади не предоставляют — летом же она на порог его не пускает. И, надо сказать, он не лезет, хотя вряд ли боится ее по той же причине, что сестры. А те уверены, что она наводит порчу.
Для меня же Валюша — отрада души и глаз. Маленькая, складная необыкновенно: тонкая в талии, ножки точеные, с лицом сказочной русской прелести — рассыпчатые русые волосы — как не прихватит их сзади в узел, а на темени полукруглым гребнем все выбьется легкая, как дымок, прядка; над большими серыми, словно только что умытыми глазами правильные — не гуще, не тоньше, не темней, не светлей, чем надо, русые брови, и чудной уточкой всегда блестящий от чистоты носик — только губы узковаты, но зато, как улыбнется — все лицо озарят некрупные, все на подбор зубки — и всегда от нее так и веет нестерпимой чистотой: до сияния, до прозрачности… И угораздило же ее выйти за Игорька! Эта печальная история всем известна до малейших подробностей:
Валюша полюбила Игорька по письмам, когда он служил в армии. Он служил на Колыме, в охране — там и пристрастился к чифирю — но в письмах оказывался пограничником, так и подписывался: «Солдат Игорь Кравчук, охраняющий на границе ваш спокойный девичий сон», — он сам придумал эту фразу и очень гордился ею. И фото свое он послал ей еще допризывное, с которого спокойно смотрел, на косой пробор причесанный, неулыбающимся строгим лицом.
А она была детдомовская, общежитская. Она говорит: «Знаете, много было парней, да все как? Ходят, душу мотают, а до церкви до венца — дорога без конца… А он замуж позвал». Она приехала, когда он демобилизовался, увидела, конечно, не слепая, за кого идет, но как бы поворачивать было некуда: уж больно своей неземной любовью нахвастала подругам, да и забеременела раньше, чем последние иллюзии потеряла.
Но как родила сынка, так спохватилась — не только, что с Игорьком уже не жила, но стала от него всячески прятать сына — вернее, не хотела, чтоб сын своего такого отца знал и при его безобразиях рос: то в круглосуточные ясли отдавала и сама там нянечкой устраивалась, потом в садик круглосуточный — опять уборщицей нанялась, а уж потом добилась, чтоб его в интернат взяли — тут она пообивала порогов, да во все инстанции обратилась.
А надо сказать, инстанций у нее три — к каждой из них она обращалась с одинаковой надеждой на помощь: писала в райком, шла в церковь к попу и бежала, зажав в кулаке скопленные деньжата, встречать электричку, которой прибывала с городского промысла цыганка Маша — «Манюня моя» называет ее Валюша.
Так вот, кто ей помог, трудно сказать, но нежданно–негаданно в сыне ее обнаружился талант и его, широкогрудого, крепкого паренька взяли в школу–интернат при консерватории в класс духовых инструментов. Тут уж она не понадеялась ни на одну из инстанций, а только на самою себя и переспала с директором этого интерната прямо в кабинете на столе — только чтоб ее Володичку–сынка часом не выперли.
С тех пор всякий разговор о себе она начинает прямо с этого: «Уж я такая блядь, такая бесстыжая, на все способная…» А меж тем, она к мужчинам никакого расположения не имеет. Помахивая неожиданно крупной, красной, растрескавшейся от щелочей ладонью вдоль всего своего складненького туловища, она говорит: «Ну, знаете, елозят тут, елозят чего–то, аж надоест. Не понимаю я этого…»
Но все ее неприятности начались именно из–за ее привлекательности. С тех пор, как сынок оказался прочно пристроен, она домой его уже не забирала, но чтобы ездить к нему почаще, стала работать на местном заводике в охране: сутки отработает — двое дома. В эти дни ходит убирать парикмахерскую и клуб, но все равно остается время к Володичке съездить. А денег ей много надо, потому что не хочет, чтобы сынок хуже других был: и джинсы ему покупает с рук, и сапоги импортные на меху, и куртку японскую, а, главное, копит ему на валторну. Словом наломается и опять на дежурство. А ночью на проходной, когда спецтранспорта нет, можно бы и вздремнуть часок, но стал ее как раз в минуту затишья донимать начальник смены — приставал к ней. Она ему говорит: