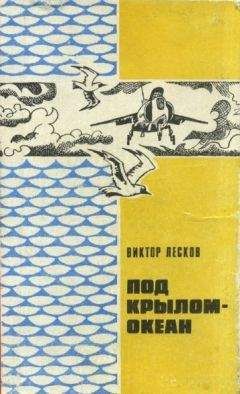Владимир Зима - В пургу и после (сборник)
К себе?
К своей работе, а значит, и к себе.
Четыре дня. Еще четыре дня. Всего четыре дня! А потом?..
— Смотри, звезда упала!
Август… Земля проходит через метеорный поток Леонид… В августе на Диксоне уже формируются первые караваны судов с грузами для островных станций. Полярный день уже закончился, а ночь еще не наступила. Сейчас на Севере странное время, которое в авиаметеосводках обозначается буквами «СВН» — сумерки всю ночь… На Диксоне сейчас хлопотно: кадровики формируют экипажи полярных станций, снабженцы делят приборы и оборудование, и надо бы, конечно, самому быть сейчас там, успеть выторговать новую аппаратуру и людей подобрать, да мало ли дел?..
— А я успела загадать желание!.. А еще я успела сломать каблук и уже целых двадцать минут иду на одной ноге, а ты ничего не замечаешь. Ты опять задумался. Скажи, о чем ты сейчас думаешь?
Он остановился.
— Прости, малыш. Что у тебя случилось?
— Каблук сломался. Это очень старые туфли. Мама купила их, когда я получала паспорт.
Он грустно усмехнулся — ей всего девятнадцать, ему вдвое больше. Права ее бабушка, во всем права — что общего может быть у девчонки и такого старого пня?..
— Знаешь, давай отломаем и второй каблук! А то я не смогу потом идти по траве до скифского кургана, и мы с тобой не посмотрим зарево.
Проворно наклонившись, она сняла с ноги туфлю и протянула ему.
— Не торопись, малыш. Скоро будет переезд. Там есть будка, в которой сидит… не знаю кто — сторож или дежурный. Может быть, у него найдется молоток, и я прибью каблук, — размеренно проговорил Смоляков, легонько дотрагиваясь до ее плеча и помогая сохранить равновесие, пока она надевала туфлю. Затем он ласково подтолкнул ее вперед.
Вновь заскрипел гравий под его ногами. Скрип-скрип… Скрип-скрип… Поплыло светлое платье, раскачиваясь из стороны в сторону.
В лесопосадке глухо каркнула ворона, взлетела, хлопая невидимыми в темноте крыльями, и будто ветер пронесся над лесопосадкой, зашумели деревья, натужно загудели провода.
— Мне не нравится идти по шпалам, давай лучше спустимся на тропинку! И пойдем не друг за дружкой, а рядом…
Он, не замедляя шаг, задумчиво посмотрел вниз, туда, где заканчивалась железнодорожная насыпь и начинались неистовые заросли степных трав. Там всполошено стрекотали неутомимые кузнечики, звонко тикали цикады и дурманяще манили к себе низкие копешки свежего сена.
— Там темно, нет дороги и можно свернуть себе шею, — сказал Смоляков.
— Здесь тоже темно и тоже можно свернуть шею. Один каблук уже свернул себе шею! — повторила Анюта понравившееся выражение и негромко рассмеялась.
Вдалеке загорелся желтый глаз светофора, а луна окончательно укрылась за густой непрозрачной тучей.
Пахло сеном и полынью, и еще от нагретых солнцем шпал тонко тянуло угольным дымом, паровозами… По этой дороге давно уже ходили только электропоезда и тепловозы, а запах паровозной гари остался.
И через много лет, когда здесь будут летать какие-нибудь атомовозы, от шпал будет пахнуть креозотом и паровозным дымом.
А может быть, эта дорога зарастет сорной травой, жилистой и сильной, серовато-черной, будто в мазутных пятнах. И люди будут обходить стороной непонятные ржавые железины, неизвестно зачем приколоченные огромными костылями к выпирающим из земли ребрам высохших порыжевших шпал…
— О чем ты опять задумался?
— Ни о чем…
— А все-таки?
— Не знаю… — начиная сердиться на себя и свой не к месту поучающий тон, ответил он. — О работе думал. И о тебе…
— Что?
— То, что ты смешной и взбалмошный малыш!
— Вот и неправда, я уже совсем взрослая. Весной даже голосовать ходила… А у вас на острове были выборы?
— Конечно…
Полотно железной дороги плавно уходило вправо, и там желтели низкие фонари стрелок, тускло светилось задернутое занавесками окошко будки путевого обходчика. А впереди чернела степь, и небо вдалеке багровело. Изредка всплески пламени взметывались над горизонтом, и тогда вспыхивали на миг глаза Анюты, устремленные на Смолякова, и от этого чистого взгляда ему становилось не по себе. Он поднимал голову и долго глядел вперед, где далеко-далеко, за скифскими курганами, горели газовые факелы.
— А вот мне до сих пор непонятно: зачем газ сжигают просто так? Разве нельзя перекачивать его куда-нибудь по трубам? Или построить рядом со скважиной какой-нибудь завод… Скажи, зачем его сжигают?
— Я не знаю, — честно признался Смоляков.
— Ты должен знать. Ты все должен знать. Ты везде побывал. И ты старше меня.
Смоляков ничего не ответил. Он зашагал размашисто и быстро, уставив взгляд в землю. Всякий раз, когда Анюта, сама того не желая, напоминала о разнице в возрасте, ему очень хотелось остаться одному на ночной дороге, а еще лучше — оказаться далеко отсюда, на своем острове, запереться в крошечном кабинете, достать из железного ящика бутыль с надписью «Для гелиографа», в которой хранился спирт, нацедить мензурку… На материке купить спирт трудно, почти невозможно, а водка… Гадость, а не, водка. При язве лучше чистый спирт. Анюта не догадывается, какая старая перечница шагает рядом с ней, пусть и не знает. Пусть хоть для нее я буду героем-полярником, пусть…
Задумавшись, он почти натолкнулся на Анюту. Она вначале забежала вперед, а потом остановилась и ждала его, широко распахнув руки. Анюта крепко обхватила Смолякова за плечи и спрятала лицо у него на груди. Жаркое дыхание прошло сквозь рубаху, и Смоляков, покусывая губы, вначале застыл как истукан, а потом нашел в себе силы отстранить девчонку.
— Малыш, смотри вперед!.. Уже виден огонек будки, в которой я прибью оторванный каблук, и мы пойдем на теплый скифский курган смотреть далекое зарево.
— Не хочу на курган! — замотала головой Анюта, схватила Смолякова за руку и потащила его вниз.
Они сбежали по осыпающемуся склону и упали на копну сухого колючего сена. Анюта обхватила руками шею Смолякова и зашептала какие-то глупые и ласковые слова, покрывая его лицо поцелуями, а он лишь тихо гладил ее маленькие плечи и молчал.
И снова он отстранил от себя Анюту, достал из кармана сигареты, но, подумав, спрятал их. Обиженно покусывая травинку, Анюта спросила:
— Ты снова о работе задумался? Смоляков промолчал.
— Скажи мне, а белые медведи очень страшные?
— Нет, не очень…
— Ты их видел?
— Приходилось…
— И не испугался? Ни капельки?..
— Мне нельзя было пугаться. Да и времени не было…
— А волки на Севере страшные?
— На моем острове волков нет.
— А что тогда страшно?
— Самое страшное для человека, это — солитудо, — глухо проговорил Смоляков и невесело усмехнулся.
— А что такое солитудо? Он не увидел в темноте, но по голосу догадался, что губы Анюты дрожат, и сказал себе: «Ты старый хрыч, и ты не имеешь права… Понял, никакого права! Ты должен сказать девчонке, чтобы она больше не приходила. Да, сказать, и немедленно!.. У нее все это, кажется, всерьез…»
Он боялся признаться себе, что и у него, заматерелого мужика, неоднократно прошедшего и молчание полярной ночи, и угар веселья пляжных городов, и ресторанные знакомства, и отпускную любовь, и ложные клятвы, и скорое забвение, и пятнадцатилетнее супружество — боже, неужели же целых пятнадцать лет? — были легкие встречи, и разлуки без сожаления, да мало ли чего еще было в его жизни, а теперь Смоляков боялся даже подумать, что и у него «это все», кажется, всерьез.
И когда он почувствовал, что у него не остается сил подняться и уйти, он по-настоящему испугался.
Когда все это началось?
Он не помнил, была ли Анюта на лекции в колхозном клубе, если даже была, это не важно. Он не видел людей, сидящих в зале. Ослепленный ярким светом рампы, Смоляков стоял на середине сцены и что-то сбивчиво рассказывал о своей полярной станции, о выполнении программы научных исследований Арктики, благодарил сельских школьников за их трогательные подарки…
В этом маленьком селе жила мать механика Бойченко, погибшего лет десять назад на острове Голомянном. С тех пор каждый год кто-нибудь из его товарищей по зимовке во время отпуска заезжал сюда на день-два проведать старушку, заодно помочь по хозяйству.
И на этот раз, как обычно, парторг колхоза собрал людей в клуб, Смолякова пригласили в президиум, виновато извинились, что зал не полон — все в полях, хлеба осыпаются…
В середине выступления Смоляков почувствовал, что слушают его невнимательно. Парни и девчата, видно, ждали танцев…
И тогда он, пряча обиду, иронично улыбнулся, развел руками:
— Время географических открытий, к сожалению, а может быть и к счастью, прошло… Сорок лет назад каждая зимовка считалась подвигом. А сейчас на полярных станциях работают не герои, а обыкновенные люди. Героями стали космонавты!.. Хотя Арктика за сорок лет не потеплела ни на градус, изменились оценки трудностей. То, что раньше называлось подвигом, сейчас называется нарушением техники безопасности…