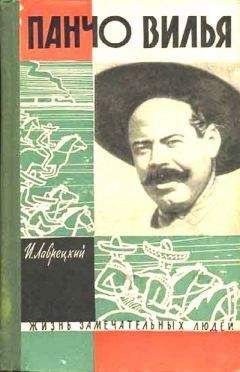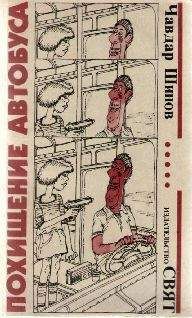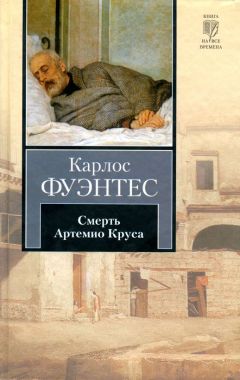Юрий Нагибин - Среди профессионалов
Принц-консорт тоже устал. Он любил королеву, но какая любовь сохранит свою свежесть, свой пыл, если она — по обязанности? Если объятие становится непременным, как для клерка — брюки в полоску? Перестаешь чувствовать себя в ряду великих любовников и занимаешь место в ряду великих производителей, вроде Резвача II, при этом так и не дав ни одного рекордсмена. Но это уж не его вина! А чья? Говорят о дурной крови королей. А кто знает, лучше ли древняя кровь герцогов Эслингтонских? Как ни крути, он выходит виноватым. Королева остается королевой, но его существование бессмысленно. Нельзя же, в самом деле, тратить на него деньги нации лишь ради того, чтобы он присутствовал на званых обедах, приемах, скачках, открытии памятников, раздачах наград в колледжах и вручал кубок, носивший его родовое имя! Принц-консорт вдруг понял, почему он сострадает Моралесу. То было корпоративное чувство профессионала к профессионалу. Каждому из них дано воплотиться лишь в своей профессии: Моралесу — в спорте, ему — в любви. И принцу-консорту страшно видеть падение Моралеса, ибо за этим он видит и свое окончательное падение. Он всем существом понимает муку костариканца, для которого борьба и победа важнее всех малых материальных выгод, — истинный профессионал не имеет права отступать.
И снова веснушчатый мальчик неприметно для зрителей тянет время, чтобы дать Моралесу собраться с силами.
Волосатый Осборн ждал, ни малейшим движением не выдавая своего нетерпения. Этот независимый профессионал — крепкий парень! И как не вяжется его спортивная собранность, выдержка, хладнокровие с волнистыми кудрями до плеч, забранными черной бархатной ленточкой, нарочитым колечком усов и бородки вокруг маленького пунцового рта, этакого жеманного ротика в стиле красавиц восемнадцатого столетия! Как должен ненавидеть его Моралес! За женственность, за нежелание проиграть и за свою смертельную усталость. Когда в полуфинале Панчо играл против любителя Иенсена, заметно уступающего ему в классе, и легко выиграл в трех сетах, он даже не счел нужным похлопать того по спине — традиционная любезность в отношении побежденного. Во время игры Иенсен, гордый тем, что прорвался в полуфинал столь крупных соревнований, исполненный умиленного почтения к своему знаменитому сопернику, вел себя наивно-трогательно. Каждый удачный смеш или дроп-шот Моралеса он сопровождал восторженным воплем, воздевал руки к небу, словно призывая господа бога в свидетели, что не виноват в пропущенном ударе. Раз даже присоединился к аплодисментам зрителей после какого-то особенно эффектного прыжка Панчо. Он ничего не выгадывал для себя: состоятельный, независимый человек, он не помышлял о переходе в профессионалы и не играл на публику, просто был добр и рыцарственно благороден. Но по окончании игры в ответ на его крепкое, обеими руками пожатие Моралес лишь зыркнул своим желтым тигриным взглядом и, ни слова не обронив, пошел прочь. И принцу-консорту показалось, что он ненавидит голубоглазого датчанина. За что? За непрофессионализм, за то, что тот явился пусть легким, но все же барьером на пути к победе, за то, что заставил потратить на себя силы, причинил усталость, лишний раз напомнил о годах, о близости неизбежного ухода? Ненависть Моралеса относилась не к Иенсену-человеку, не к Иенсену-игроку, а к Иенсену-соринке, попавшей в глаз. Иенсену-сучку, зацепившему за платье, Иенсену — ничтожной помехе. Как же должен он ненавидеть Осборна, забирающего у него всю силу, высосавшего его, как пиявка!..
Звук удара по мячу упал принцу-консорту в самое сердце. Грандиозная, сокрушительная, феноменальная подача Моралеса наконец-то состоялась. Мяч, ставший белесым диском, коснулся травяной щетины корта и, казалось, лишь чудом не ушел в грунт. Осборн принял подачу. И не просто принял, а ответил сильнейшим драйвом и ринулся к сетке. Видимо, Моралес действительно был на пределе: вместо того чтобы дать высокую крученую свечу — лучшее оружие против нерослого противника, — он попытался обвести. Удар получился робким. Осборн был на месте, он улыбался своим пунцовым ртом. Моралес знал, что мяч проигран, а с ним и второй матч-бол, и позволил себе слабость: его желтый, отчаянный, почти безумный взгляд скользнул по трибунам, словно взывая о помощи и на какой-то миг скрестился с взглядом принца-консорта. Это случилось в то самое мгновение, когда Осборн, предпочтя из всех эффектных возможностей выигрыша простейшую и надежную, срезал мяч вдоль сетки.
Вопреки приличию и своей пресловутой выдержке, принц-консорт вскочил. «Не умирай!» — сказали его глаза, и то было приказом и мольбой.
Еще не замор тяжкий вздох трибун, когда Панчо Моралес прыгнул. Казалось, что в воздухе он еще раз оттолкнулся — все сидящие на трибунах отчетливо видели, как, провиснув на миг, он сделал второй рывок, не коснувшись ногой земли, — это было, как если бы в два прыжка одолеть пропасть. Он оказался возле мяча прежде, чем тот вторично коснулся земли. Панчо сделал странное движение ракеткой, будто козырнул, и Осборн, не шелохнувшись, зачарованным взглядом проводил летящий вдоль линии коридора мяч.
— Игра! — бесстрастно сказал старый, крючконосый судья, похожий на ощипанного ястреба.
Осборн развел руками, присел и не то расплакался, не то рассмеялся: его узкая спина с юношески острыми лопатками ходуном ходила. Затем он поднялся, хохоча, но из глаз его катились слезы, и, перепрыгнув через сетку, кинулся к Панчо Моралесу. И тут только трибуны поверили в случившееся и взорвались аплодисментами.
Моралес стоял неподвижно, все его тело оставалось сведенным, полускрюченным родившимся в нем странным ударом, пепельное лицо казалось мертвым. Он не шелохнулся, когда Осборн стал хватать его за локти, что-то исступленно крича. Затем, отстранившись, он медленно распрямился, переложил ракетку в левую руку, а правую поднял, словно хотел ударить Осборна. Его большая, истрескавшаяся ладонь мягко опустилась на узкую, мальчишескую спину, и длинные пальцы чуть потрепали обросший загривок. Осборн вымотал его, выпотрошил напрочь, но он же показал Панчо, чего тот еще стоит, и старый боец был благодарен ему за это…
Вручая кубок Моралесу, принц-консорт к словам приветствия неожиданно для самого себя добавил:
— Если б вы знали, как я желал вам успеха!
Бесстрастное бронзовое лицо — отдохнув, Панчо вернул себе обычные краски — дрогнуло. Бывают минуты странной, высшей жизни, когда словно вступают в действие дремлющие резервы личности, некий нетронутый запас, и человек становится властелином своей памяти, сознания, внутреннего времени, может бешено ускорять его и почти останавливать, когда слабая, рассеянная человечья суть становится равной своей скрытой подлинности, а вялая проницательность — способностью читать свое и чужое сердце. В мозгу Панчо Моралеса все события и переживания последних часов медленно заскользили назад — так бывает в кино, когда пускают изображение вспять: вот он снял с себя вязаный свитер, рубашку и легкие брюки из светло-серого альпака и оказался голым под душем, больно и приятно нахлестывающим измученное тело; из-под душа он вышел не чистым и освеженным, а грязным, усталым, и на нем была его теннисная амуниция, и ручка ракетки прилипла к ладони, сочащейся из-под пластыря сукровицей; затем возник белый шарик, будто скатывающийся по сетке, и ощущение своих вытаращенных отчаянных глаз, и розоватая смазь лиц на трибунах, и чей-то взгляд в упор, хотя издали, взгляд прямо в мозг, в сердце, и горячий толчок крови, толчок не безумной надежды, а необъяснимой, взахлеб, веры, что чудо свершится… Неужели этот взгляд принадлежит принцу-консорту? Панчо внимательно, не мигая, поглядел в благородно-бледное, ухоженное, еще красивое лицо, он увидел обманчиво спокойную синь глаз и горькую складку у губ. Вон что! И его не помиловало время, и в его дверь постучалась осень!..
Летающий Панчо улыбался редко, но он еще не разучился улыбаться. Сухие, заветренные губы дрогнули и поползли в опасной улыбке доброго людоеда, открыв все тридцать два белейших зуба.
— И я желаю Вам успеха, Ваше высочество!..
Принц-консорт высокомерно вскинул брови и ничего не сказал.
Вечером состоялся традиционный бал в честь закрытия турнира. И, как всегда, бал открыли победители одиночных соревнований штраусовским вальсом. Высокий, закованный в черную фрачную пару, как в латы, привычно угрюмый Панчо Моралес твердо, даже жестко кружил маленькую с дерзко вздернутым носом Кольман-Вейс, и взгляд его был устремлен поверх партнерши, поверх праздничной толпы, сквозь толщу стен, туда, где его снова ждала травяная, или грунтовая, гладь, смертное напряжение, резь в глазах, саднящая боль в ладонях и новое насилие над своей плотью и духом…
…Принц-консорт вернулся поздно. Приняв душ, надел легкий японский халат и, закурив сигарету, довольно долго стоял у окна, глядевшего на высокие темные дубы. Затем, решительно погасив сигарету, он толкнул маленькую, скрытую в стене дверь и оказался в королевской спальне. Королева сидела у туалетного столика и кончиками пальцев медленно и задумчиво втирала крем в изморщиненные подглазья. Как и всегда перед зеркалом, вид у нее был печальный.