Василь Земляк - Зеленые млыны
«Лемки! — опять расхохотался прибежавший с крыльца Савка Чибис. — Тринадцать звеньевых и трое музыкантов!» «Сколько, сколько?!» — Лукьян побледнел, как полотно, как стена сельсовета (сельсовет для бала побелили снаружи и внутри). Зеленые Млыны тоже поставили рекорд по свекле и теперь привезли показать правительству весь цвет своего колхоза.
«Ай лемки! Ай молодцы, что приехали в великий Вавилон!»— горячо приветствовал их Лукьян с крыльца, явно ободренный тем, что они прибыли не с пустыми руками, а привезли бочку пива на возу («Это для высоких гостей», — подумал он), тогда как другие свекловоды прибывают без всего, возлагая все надежды на Вавилон, чьи «изделия» еще бог знает как оценит Глинск, не говоря уже о гостях из столицы.
Агроном Журба, которого тут знали как великого спеца по свекле, извинился не за то, что лемков приехало так много, а за то, что их председатель Аристарх Липский заболел и не смог прибыть, но рад будет видеть их всех (Журба широким жестом показал на понурившийся вавилонский актив на крыльце) в Зеленых Млынах, на балу, который состоится в следующее воскресенье, а к тому времени верно уж и подмерзнет. Савка, представив, как на тот бал к лемкам двинет пол Вавилона, расхохотался, так что Лукьян вынужден был извиниться за него перед лемками, которые могли как-нибудь не так истолковать этот смех. «Это наш исполнитель, он от роду весельчак…» Савка принарядился, он был в новых штанах, в новом картузе и в рубашке из пурпура, выделанного в Прицком, только вот сапоги… Савка чинил их, как только рвались, а теперь застеснялся перед лемками их вида и спрятался за актив.
«Чубарь уже здесь?» — поинтересовался Журба, которому было поручено войти в прямой контакт с товарищем Чубарем и пригласить его на бал в Зеленые Млыны.
«Ждем…» — Лукьян метнул на Савку предостерегающий взгляд.
Затем прибывших приветствовал Фабиан с козленком, и гости, сойдя с телег, пошли за ними на красный песок.
Приехал Клим Синица, а с ним несколько бричек из Журбова, из Шаргорода и откуда то еще. У Клима в бричке — Соснин, заворг райкома Яша Тимченко и какой то новенький, как потом выяснилось, штатный пропагандист райкома Головей, недавно приехавший из Одессы. Все промерзли, потому что долго торчали на дороге в ожидании правительственных машин, так что теперь просили прощения за свое опоздание и за высоких гостей, которые, верно, так и не прибудут. Бездорожье.
«Детей, детей не пускайте!» — послышалось, едва отворились бальные врата.
А из овина такое устроили! Прямо рай! Гости будут чувствовать себя здесь, как во дворце. Музыканты на помосте играли туш каждому счастливцу, едва тот просовывал в овин голову, столы прогибались от жарких, ряженки, кукурузных початков, моченых арбузов, всего того, чему надлежит быть на столах, а над столами с высоких балок свисали на веревках жареные поросята, запеченные молоденькие барашки, пудовые индюшки, подвешенные за ноги, — и все это еще теплое, только вынутое из печей, и так пахло, что нам, детям, просто спасу не было, и мы дрались за каждую щелочку в досках овина, чтобы хоть увидеть это чудо вавилонское, раз уж нет надежды «вкусить» его.
Вот только у музыкантов все что-то не ладилось. Сведенные на одном помосте представители разных «школ», они долгонько не могли сыграться, пока не взялся за них лемковский скрипач Сильвестр Макивка (уже одно имя чего стоит!) и не повел их за собой. Вскоре деревянный овин содрогался от аккордов, а иллюминация — особенно синие лампочки (их красили, как красят яйца на пасху) — и врямь придавала и крыше, и столам, и лицам оттенок чего то столь небудничного и таинственного, что я едва узнавал даже своих родичей Валахов.
Мы мерзли и допоздна глотали слюнки за стенами овина, а потом вспомнили и о нас, уж не знаю кто. Савка Чибис ходил с огромным ножом и оттяпывал для нас бока у барашков, как выяснилось, пятимесячных (Фабиан сказал, что именно таких, пятимесячных, подавали в Византии на трапезах порфироносных императоров), их мясо само таяло во рту.
Вот чем наш Вавилон был уже тогда, когда еще не имел дворца и первый свекольный бал устроил в громадном овине Матвия Гусака. А чтобы мы чувствовали себя здесь такими же людьми, как те, для кого все это устраивалось, Мальва велела нам снять картузы и отцовские шапки, Сильвестр (в Вавилоне и имени то такого нет!) сам заиграл для нас что-то беззаботное, веселое, можно сказать, даже смешное, хотя, по правде говоря, нам за этими столами было не до музыки — какая там музыка, когда тебя каждую минуту могут выдворить с этого славного бала так же любезно, как и пригласили на него. Выдворили же козленка Фабиана, и я подумал, что с его отцом, козлом Фабианом, так непочтительно не посмели бы обойтись.
Мальва пригласила на бал Варю Шатрову из глинскон больницы. Варя была в слишком длинном для того времени платье из черного бархата (верно, сохранилось еще от офицерского гардероба) — прямо таки богиня; мужчин платье отпугивало, зато нисколько не угнетало вавилонских модниц, чьи бальные туалеты поражали красками пролетарского текстиля. Соснин первый приметил это платье и пригласил Варю на падеспань. А Рузя нарядилась в белый батист (пожалуй, чуть легко для овина), сквозь который проглядывало кремовое кружево сорочки. Клим Синица нацепил в честь бала кожаную руку. Во время танца рука, напоминая о своей новизне, поскрипывала под рукавом, и это пугало Рузю.
— Рузя, вы так одна и живете?
— Одна…
— В той самой хате? Над прудом…
— В той самой… Только без трактора. А что?
— Не страшно вам?
— Привыкла уже… А вы как? Тоже один?
— Влюбился… Ха ха!
— В кого? Она здесь?
— Здесь… Вы ее знаете… — Соснин танцевал с Варей, и Синица кивнул, как бы поздоровался — Варя и впрямь была чудо как хороша.
— И не страшно вам? — усмехнулась Рузя. — Таксе время… тревожное…
— Любовь не приспосабливается ко времени… Она слепа…
С тех пор как Синица не видел Рузю, она расцвела и вся словно искрилась изнутри, вместо былой печали — в глазах лукавые чертики, как когда то в девичестве. В этом году ее звено поставило рекорд по свекле, и на балу Рузю наградили никелированной кроватью — новинкой для Вавилона. Руки у нее красивые, после свеклы долго отбеливались к белому батисту, и вся ее фигура — сама грация, словно Рузя рождена для балов. Одно только, пожалуй, настораживало в ней Клима Синицу — слишком уж звонко она смеялась, когда в тесноте кто-нибудь ненароком касался его кожаной руки и тут же виновато отшатывался. Синица стал уже стесняться своего протеза.
Около полуночи, в разгар бала нагрянул Македонский, стал в дверях, осмотрелся, потом поманил жестом Клима Синицу (тот осмелел и как раз вальсировал с Варей). Синица притворился, что не заметил жест Македонского, один вид которого говорил яснее всяких слов: Синице надо уезжать. На приглашение хозяйки бала — Мальвы Македонский не поддался, стоял у входа, ждал, когда выйдет Клим. А тому все не хотелось обрывать этот первый вальс. Македонский не мешал им танцевать, верно, и сам был очарован, он никогда еще не видел такого чистого, одухотворенного танца. Потом Синица долго не мог найти на вешалке свою кожаную фуражку…
С Синицей уехал и Соснин, а оставшиеся уже бог знает что подумали!..
Музыканты заиграли песню: «Ой, забелели снеги, забелели белы…», пел весь овин, и особенно трепетно выводил Явтушок.
Козленок Фабиана, воспользовавшись замешательством, прокрался таки на бал, но поскольку там были и беременные женщины, которым, по вавилонскому поверью, никак нельзя смотреть на живого козла, то философ упрятал его под пиршественный стол, а сам пригласил выпить агронома Журбу, также чем то опечаленного.
— Будем здоровы, пане агроном! — иронически про говорил Явтушок.
— На свекольные балы панов не зовут — их давно нету, — отрезал Журба и добавил: — И козликов, между прочим, тоже не приглашают.
Агроном нащупал под столом холодные, как у мертвеца, рожки козла, вытащил его, ошарашенного разоблачением, на середину риги и сразу поднял этим настроение на балу.
— За Фабиана! — пошутил кто то из вавилонян.
— За обоих Фабианов!
Философ встал, чтобы поклониться людям за оказанную честь, но тут начала слепнуть гирлянда лампочек под крышей, меркла, меркла, пока не погасла совсем.
Как только наступила тьма, тот, давний Вавилон сразу же напомнил о себе. Начал кто то один, а за ним и другие — старый Вавилон, позабыв о чести, дал волю своим укрощенным страстям. Слишком уж соблазнительны были свисающие на веревках барашки да индейки. Лукьян Соколюк, вставший в дверях, поймал, как показалось ему, Явтушка с чем то душистым на руках— вроде с барашком.
— Это ты, Явтух? Положи на место! Положи барашка!
А тот в ответ совершенно незнакомым голосом;
— Господь с тобою! Ты что, ослеп? Какой тебе Явтух?

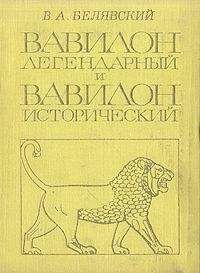


![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](/uploads/posts/books/54853/54853.jpg)