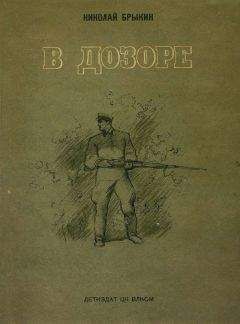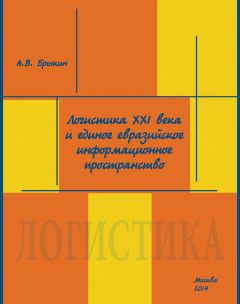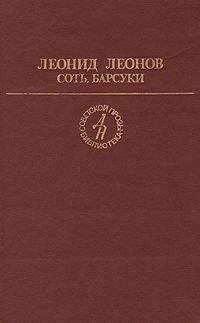Леонид Леонов - Барсуки
– Паренек-то родственничек тебе, аль как? – ластится к ямщику раздобревший от довольства своего Егорка.
– Своих не признаешь. Знать дома давно не бывал? – кряхтит ямщик. – С коровами-то, слышал, беда вышла.
– Ан и не слыхивал... а какая? – У нас, говоришь, в Ворах, беда?
– Все бы нам подешевше, – раздумчиво укоряет ямщик, – а за дешевку-то впятеро платить. Максимку Лызлова памятуешь?
– В пастухах который? ну! – торопит Егор.
– Заспал на солнышке, по старости... а пастушата – ведь вон экие, их самих пасти впору – дудки резали. Коровы – восемь ли, девять ли голов спустились на поемку...
– Ой, – пугается Егор, сдвигаясь с сиденья.
– Вот те и ой. Спустились да веху и обожрались. Подохло пятеро. Остальным фершал чекмасовский, Шебякин что ль? – пузя прокалывать наезжал.
– Выходили? – волнуется Егор, ерзая по сиденью.
– Да не известны мы...
Переезжали мосток. Бревна хлопали, колеса стучали, мешали слушать.
– ... парнишку, евойного братеня, крепко побили, в кулаки. Шестнадцатый всего парнишке. Да што, коров-то не подымешь! А этот вот убег да четыре, вишь, дня в лесах бродил. Сенькой-то тебя, что ли? – спросил он вдруг у мальца, пугливо вскинувшего большие, в кругах, глаза. – Задичал. А мать в реке багром шарила. Темные мы, ровно под землей живем...
Ахает Егорова душа: неужто и твоя, Егор, корова в счет попала? А корова – месяц целый крику на Толкучем, земляка в трактир не сводить, с Карасьевым в праздничек пивком не побаловаться. Еще новый дом в Ворах в голубой оттенок красить сбирался...
И тут же в память идет: и их, Егорку, да покойного Алешу Босоногова, да Андрюшу Подпрятова, да Митю Барыкова, в детстве влекло на Глебовскую пойму, где высокого веха полые палки ненасытно сосут черный жир из заболоченной земли. Из веха цыкалки делали и дудки. Под вечер шли домой и трубили все четверо дружным хором и наперебой, распугивая куликов и кур, брюхатых баб и молодых телят. Егорке и прозванье было дадено: Егорка Тарары.
Небо стало глубже и темнее, увеличиваются в нем стайки звезд. Придвигался последний перелесок, за ним – Воры, Егорова родина. Лихо козырек пооткинув, носовым платочком обмахивает Егор Иваныч пыль с сапог.
– Да уж и то сказать! – рассудительно внушает Брыкин. – Уж больно народ у нас дик. Били нас, надо сказать, мало. Ноне, к примеру, жалобитесь да слезой текете, а завтра как хлобыснете по священному-то месту... Серость в вас...
– Да сам-то, аль в графья пошел, как в городе пожил? – в первый раз оборачивается ямщик. Из его деревянной рожи, распустившейся в острую насмешку, узятся презрительные старичьи глаза.
– Ну-ну, уж не щерься... правь, правь! – рычит на него Брыкин, скаля зубы и кося глаз на близкое село. – Ты знай свое дело, чеши бороду!..
Ямщик злобно и тупо смотрит на Брыкина и вдруг рывком поворачивается к лошадям.
– Ээк, вы... собачки зеленые! – с надрывом и дико кричит он, и кнут его свистит на всех трех разом.
Тарантас, хрипя рессорами, вспрыгивает и ныряет в последнем ухабе, на взъезде в село. Охватило знакомым духом жилых изб. Полаяла на троечное колесо собака. Лихие, безудержные, из последних сил раззвенелись по селу бубенцы.
Ночь.
II. Савелий пристроил ребяток.
Превеликим загулом проводил Егор Брыкин холостые свои деньки. Еще и до свадьбы стал Егорка Егор-Иванычем зваться, а как оженился, так и совсем возвеличился на всем миру Егор. Играли свадебку в новом доме в сослуженьи родственников и свойственников, песенников и попов. Воистину куриная смехота: напитков и наедков не перечислить, пахло свежей краской, ломился от пляски пол.
А один из наезжих сродников, дикой невиданный дядя, так балаболил в соседней волости об Егоровом величестве:
– Ой, дедуньки... Гармони пеяли, девки пеяли, попы пеяли. Хошь кушай, хошь – слушай. А дом! Вот это дом, одна печь вдвое больше избы... Вот уж дом, так дом! – и пьяными ногами расписывался в справедливости рассказа своего. – Да и не одни дядья только...
Погуляв же месяцок – другой, собрался Брыкин в город. Правда, горяча и неустанна в любви, как и в пахоте, Аннушка Бабинцова, теперь законная Брыкина жена, – и руки у ней мягкие и жадные, и губы сладки, как большая лесная ягода, – скуки с такой женой не ведать, какая длинная ни случись ночь. Но и ларь не ждал: каждый день – заметная убыль, каждый час рубль. С молодой супругой своей совсем обносился и лицом, и карманом Егор Иваныч. И, покуда собирался вернуться к своим крикливым будням, зазвал его к себе Савелий Рахлеев, поротый.
Яишенку смастерив и раздобывшись у соседа настойкой в долг, стал Савелий, руками маша, прикланиваясь и потчуя, рассуждать вслух о разном. Одно в его бестолковых рассужденьях ясно было, – совсем его невозможность одолела.
– Да вот и с коровами-те какая провинность! Кто его знал, вех! Растет и растет, явственный факт. И никогда такого не случалось, чтоб на него скотина льстилась. В нем и соку-те, понимаешь, никакого нет, ни кровиночки... одно деревянное стволье! – Савелий в этом месте пошикал на жену, Анисью: – у-у, ровно метелка в углу стоишь. Присударкивай гостя-т, непоклонная!
Егор Иваныч сидел в красном углу, пыхтя от сознанья собственной славы и от тугого воротника. Временами, поддакивая и намарщивая небольшой лбишко, ковырял он ложкой яишницу, посапывал и молчал.
И опять разливался слезой да жалобой Савелий. В такие времена велика трудность в хозяйстве. Мальчонок – не баран, шерсти не настрижешь, а хлеба ест много. Хозяйство бедняет с каждым годом, двор падает, и боров прошлой осенью, ровно на зло, сдох.
– Нищаю... А каб была у меня зацепка в городе, отдал бы я мальцов своих туда. Сыт, одет, и не думается. Глядишь, и набежит с кажного хоть по серебряному рублику в три месяца. Хлеба не едят, и то барыш! – жалобно прокричал Савелий и, в бессильи выпучив глаза, присел на лавку.
– Разве у нас там рубль – деньги? – пожал плечами и посклабился Егор Иваныч. – В Москве тыщи цельные по улицам бегают, а от рублей-то мозоли на руках вспухают. Конечное дело, сноровка нужна во-время рублик поприжать! – Тут Егор Иваныч встал, отпихивая в сторону недогрызанный огурец. – Так вот. Ты, Савелий Петрович, готовь подводу к завтрему. Беру мальцов твоих... И меня уж зараз отвезешь.
Проговорив так, поиграл плечиком Егор Иваныч, посмотрел на серебряные часы и вышел. В сенях тащил с колодца бадью с водой хромой Пашка, старший Савельев. Ему, дав одобрительного щелчка, произнес строго Егор Иваныч:
– Ну, Хромка, сбирайся в город со мной. Просватали!
Шум поднялся в Рахлеевской избе по уходе Брыкина. Мать кричала на отца, а тот отпихивался и отнекивался:
– Что-о? Это я-т, выходит, пьяница? Носоватов, князь, величественный человек, как я в пажеском-те корпусе служил... Пей, говорит, Савелий! Питье украшает жизнь, пей. А я рази для украшенья? Рази тот человек пьяница, который от горя пьет?.. Да и ребят-те я с кровью, может, от сердца отрываю! Не-ет, это ты совсем неверно.
Тем и докончил Савелий, что допил единым духом остатки, мутневшие на донышке, и сбежал от Анисьи на весь вечер в разговоры по мужичкам.
... Утро, подкованное легким морозцем, бодрило и отбивало сон. В то серебряное утро уже стемна ждала у Брыкинского крыльца Савельева подвода. Братья, Сенька и Пашка, сидели в телеге, укутанные в самое новое, какое нашлось у матери, тряпье, и пучились на отца. А отец, суетливый и маленький, и уже не без пьянцы, все подхихикивал кому-то, воображаемому, и попрыгивал вокруг своего конька, смешного, усатого, жалкого, как он сам. Черные Брыкинские окна тускло тлели красными и желтыми бликами скупой осенней зари.
Тут на крыльцо Егор Иваныч вышел, застегнутый на все пуговицы, заспанный и сердитый. Шея его была обвязана полосатым, толстенной шерсти, шарфом, – супругин дар. Сзади Брыкина, заплаканная, явилась и сама Егорова молодайка.
– Ну, прощай, жена, – сурово сказал Брыкин. И тут же не удержался, чтоб не щипнуть жену вдобавок к недавней утехе. – Жди гостинцев, Анна.
– Да хоть на народе-то не мни, мучитель! – отстранилась та. – Замял ты меня совсем.
– А что ж? Не убудет, а любо будет! – притворно засмеялся Брыкин. Так, что ль, Савель Петрович?
Но Савелий только мигал, и рот его плыл униженной поддакивающей улыбкой. Пашка угрюмо отвернулся и глядел куда-то в угол, где на выселках горел пестрою резьбою дом лавочника Сигнибедова. Сеня дремал.
– А что, Савель Петрович, – приступил к делу Брыкин, не выпуская из узкой своей ладони пухлой жениной руки, – меринко-то подгуляло твое! Уж больно брюхо-то у него отвисло, прямо по земле волочит. Не довезет четверых-то!
– Ге-э, – затрепыхался в воробьином смехе Савелий, одергивая кушак и смехом же надувая щеки. – Скажешь ты, Егор Иваныч, плешь тебя возьми. Да рази ж в лошади брюхо важно? В хрестьянской лошади, ге-э, зубы главное! Она зубами пищу принимает, жует одним словом... Да ноги еще! а брюхо, это уж извини, это никакого влияния не оказывает...