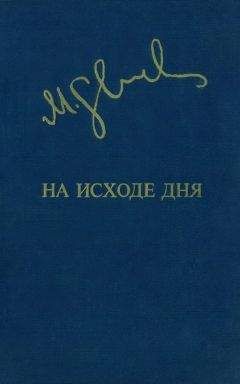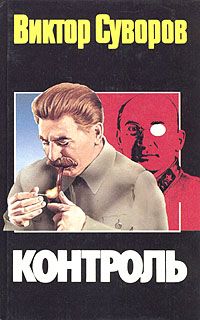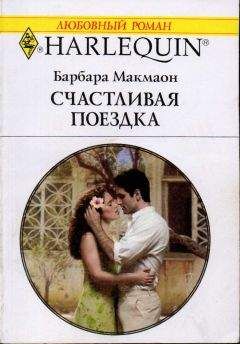Миколас Слуцкис - Поездка в горы и обратно
А мать — неглупая женщина, когда прижмет беда, даже сообразительная и хитрая — об этом не догадывается?
Мать зашевелилась в кресле, на пол соскользнула ее гордость — ценой немалых усилий добытая черная кашемировая шаль. В свое время выменяла в Закавказье на вышедший из моды нейлон. Посещая Москву, Тбилиси или Баку, она нередко занималась куплей-продажей. Было ясно, о чем она заговорит, так как и прикованная к креслу не переставала заботиться о своей внешности, прежде всего — о лице, которое слегка перекосил какой-то непослушный мускул. Будто застрял не на месте осколок улыбки, раздражая, как инородное тело, как вонзившийся в щеку кусочек стекла. Время от времени, особенно ожидая посторонних, мать терзала помадой губы, словно их пурпур должен был сжечь неуместную улыбку, придававшую двусмысленность не только лицу человека, но и его жизни.
— Купи хорошие духи, лучше всего французские! — В изменившемся, надтреснутом голосе проскальзывает зависть и больше, чем горящий рот, выдает жалкое положение матери.
— Хорошо, мама.
— И знай: собственного мужа тоже надо соблазнять! Постоянно. Не позволяй ему привыкать ни к твоему телу, ни к характеру. Я вон заставляла отца прыгать, как шкварку на огне. И теперь подогреваю, чтобы не застывал.
— Снова маменька бесится? Не больно-то обращай внимание. Говоря так, отец еще не был облачен в мерзкий комбинезон с огромным, как хомут, воротником, а она была маленькой, девятилетней девочкой, с личиком ненамного веселее теперешнего. — Страшен огонь, который человек в самом себе разжигает. Его нечем гасить — разве что водкой.
От водки отец шарахался. Тогда, когда она была маленькой, а он боялся ее обидеть.
Потер левую сторону груди и не взглянул на продрогшую дочку. Чувствовал ее приближение, прежде чем шуршали шаги и она успевала раскрыть рот. Общался с ее тенью — бдительной, безжалостно все замечающей, но ничего не требующей, тем более вознаграждения.
Она все ждет и никак не может дождаться, и ей уже кажется, что вагон застрял, не движется, только трясется всеми суставами, зажатый с обеих сторон полями, вокзалами, поездами, сверху беспощадно поливаемый солнцем, которое растаяло от жары и вот-вот начнет испаряться вместе с людьми, их скукой и равнодушием. Время от времени колеса вроде бы и приходят в движение, поезд даже катит во всю мочь, но как-то странно — выгибаясь дугой и выталкивая на передний план то песчаный карьер с обгрызенными откосами, заслоняющий горизонт, то километровую ограду какого-то завода. От напряжения рябит в глазах, мерещится, что ее уже везут обратно, хотя она противится этому всем своим существом. Небо отдирается от земли, пропуская состав, исчезают стройные, как свечи, тополя, снова шелестят приземистые липы, и она скоро опять очутится на мокром вильнюсском перроне — ведь там вечно идет дождь. Она не успеет и зонтик раскрыть, как приблизится, преграждая дорогу, одетая в темное женщина с крупным, будто высеченным скульптором, лицом. Особенно выделяется на нем верхняя губа, необъятная, словно созданная с каким-то тайным умыслом. Серые глаза, прикрытые набухшими веками, не моргают, когда капли шлепают по этой губе.
— Ничего с твоими не случится, девочка. Найдешь, как оставила, живыми.
Так равнодушно говорят об оставленных на чье-то попечение кошках. А ведь сама навязалась в помощницы — никто не просил. О матери позаботится отец, божился, по-прежнему, не глядя на дочь, что будет кормить, присматривать. Женщина одернула синий в полоску костюмчик мужского покроя. Девочка? Больше ничего не скажет? Нет, она уже не девочка. Раньше ее окликали «Эй, девочка!», и она спешила обернуться. Чаще всего спрашивали, как пройти на какую-нибудь улицу, или просили огонька. Она не курила, но всегда носила в сумочке спички, чтобы не надо было извиняться. Большой разницы между той девочкой и собою сегодняшней она не чувствует, но обращение этой величественной особы обидело. В нем намек на случайность ее нынешнего положения, возможно даже на его временность. Что, скоро опять станет девочкой? И огорчится этим больше, чем обидным обращением? Не знаю, ни что есть, ни что будет, только я уже не девочка! Единственный человек, который может засвидетельствовать это, стоит рядом. Задумался и не обращает на меня внимания. Он вообще не замечает меня на людях, другое дело наедине. Почему таскаешь спички? Спросил, хотя и не смотрел, как выкладывает она на столик содержимое своей сумочки. Конечно, сама виновата. Не могу к нему привыкнуть. К его пахнущему одеколоном и умывальником телу. К имени, столь непохожему на обычных йонасов, антанасов и тадасов. А все-таки он должен был бы объяснить сестре — величественная дама в мужском костюме его сестра! — что я теперь не девочка. Сестра больше не интересуется ею, кривит в улыбке свою впечатляющую верхнюю губу, над которой в волосиках усов застряла капелька невидимого, но все сильнее шелестящего дождя. Вот уже две капли украшают созданные скульптором черты — поблескивают на выпуклом лбу и над бескрайней верхней губой. Гертруда. Женщине идет это чужое суровое имя. Надо бы укрыть ее от дождя, но заклинился и никак не расправляется зонтик.
Гертруда не обращает внимания на теребящие комок зонтика девичьи руки. Орошенная мелкими каплями, она роется в большой коричневой, похожей на портфель сумке. Наконец извлекает оттуда белый, перевязанный розовой лентой сверток, который может содержать что угодно. Даже что-то приятное.
— Известное дело, какая в поездах антисанитария. Тебе, девочка, небось и в голову не пришло захватить салфетки? Помни, отныне придется заботиться не только о себе.
…Не только о себе? Ох, как бы хотелось, но ощущает она только себя: свое тело, свою кожу, свои сухие волосы всю себя — будто вцепившийся в кручу колючий кустарник, тянущий к солнцу обгоревшие ветви и словно из проволоки выгнутые шипы. Впрочем, это тоже новое, радующее и пугающее ощущение. Ведь совсем недавно не находила себя нигде, кровь из пореза не сочилась, как доказательство, что жива. А теперь вот — с упругой грудью, текущей в жилах теплой кровью, все еще, по мнению матери, недостаточно игривая, однако чего-то желающая и ждущая, даже едущая куда-то…
— Марки, конверты, открытки! Купи, красавица, никто, черт возьми, не берет! Вздумаешь написать родным, милому немилому, а без линованной бумаги, без казенного конверта… Хо-хо-хо, красавица! — выкрикивал, разевая рот с торчащими вкривь и вкось зубами, одноглазый веселый инвалид. Присел, широким жестом раскинул свой нехитрый товар, и она выбрала три конверта, хотя писать никому не собиралась.
— Спасибо, красавица. Не за копейки. Хо-хо-хо, за почин! — И инвалид шумно потащился дальше по проходу, стучась в закрытые двери купе пряжкой солдатского ремня.
Красавицей величала ее и бабушка Пруденция. Может, потому, что жалела внучку, никак не расцветавшую под давящей тенью матери. А может, потому, что видела красоту не там, где все остальные. В один прекрасный день семидесятитрехлетняя старушка не по своей воле отправилась в дальнюю дорогу. За Пруденцией прикатил большой автомобиль с красным крестом. Двести километров пути по хорошей и плохой дороге ждали ее, а также новая жизнь. Правда, сама она уже ничего не понимала ни в расстояниях, ни в жизни, которую можно поменять на лучшую. И уж совершенно ничего — в тех невероятно трудных экзаменах, которые предстояли ее Красавице. Кстати, самый трудный экзамен, несмотря на возраст и немощь, пришлось держать самой бабушке. Сначала ее вытеснили из комнатки, выходившей окнами в тихую зелень двора, — там, кроме трансформаторной будки, было несколько деревьев — и поселили в аду. То есть, конечно, не в аду, а в салоне, за стенами которого постоянно тарахтела, гудела и рычала улица. Так распорядилась ее дочь, красивая, статная женщина. В то время лицо матери еще не было перекошено осколком постоянной улыбки, и она радостно хлопотала, взбивая бабушкины подушки, освобождая пространство для предполагаемого старта дочери. Бабушка Пруденция, сунутая, как какое-то полено, в постель, терпела все стоически и постоянную свою неподвижность, и набухающее, в пролежнях тело — ведь ест и лежит, лежит и ест! — и одеревеневший свой язык, обрекавший ее на одиночество среди людей — не где-то в пустыне, а вот грохот улицы вынести не смогла. Полчеловека осталось, как говорила одна соседка, старушка не в состоянии была отодвинуться от назойливого солнечного луча или от подбежавшей, чтобы обнюхать ее, соседской собачонки, которую ненавидела всеми еще живыми своими ощущениями. Но пуще всего ненавидела она день и ночь вползавший с улицы шум, железными когтями рвущий мозг…
…А может, бабушка любила этого грохочущего гада? Говорят, не только в юные годы, но уже и в летах была она веселой, двух мужей похоронила, и не одни они по ней сохли. Быть может, по дрожанию оконных рам, пола и стен, а также ее железной, окрашенной в синий цвет кровати старушка ощущала, как тесна тюрьма, отрезавшая ее от живых. Тосковала по несущейся мимо жизни, как высыхающее растение — по дождю, и задыхалась от ненависти к ней?