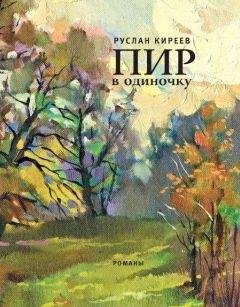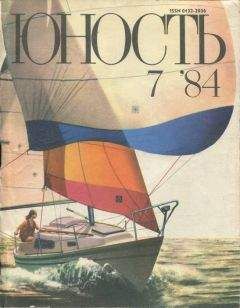Руслан Киреев - До свидания, Светополь!: Повести
Пользовался ли хоть кто‑нибудь её благосклонностью? Да. Некто Толя Скат из параллельного класса, разрядник по гимнастике. Он был пониже своей дамы, но такой мускулистый, такой подтянутый и опрятный, что вахлаками выглядели рядом с ним обожествляющие её однокашники.
Друг к дружке они не ревновали её — лишь к Толе Скату. Он был их общим врагом, и они, объединившись (я говорю «они», потому что сам я, понимая всю унизительную бесперспективность своего чувства, тщательно скрывал его), объявили войну удачливому сопернику. Их было много, а он — один, но, маленький и отважный, продолжал на глазах у всех провожать её до самого барака. Раз началась‑таки потасовка. Я думаю, разряднику пришлось бы худо, не ворвись в толпу окруживших его верзил другой недомерок — Славик–гармонист. Левой рукой расшвыривал взбеленившихся женихов, а правую держал в кармане. Неизвестно, что было у него там, скорей всего, ничего, «на бога брал», но хоть бы кто пикнуть посмел! Славика знали. «Падлы! — проговорил он тоном ветерана Петровской балки. — Семеро на одного?» Он любил «побоговать», и, честно говоря, мало кто поверил тогда в искренность его защитительного порыва. «Рыцарь, а?» — поглаживая Атласа, с улыбкой произнесла Лидия Викторовна. К Черчиллю обращалась — лысому толстяку в парусиновом костюме, который, сколько я помню его, все читал на лавочке, попыхивая трубкой, газету. И двух слов не произнёс за все время — я, во всяком случае, не слыхал.
И поныне сидит с газетой Черчилль в той же позе и… чуть было не написал: на той же скамейке, хотя теперь в квартире места более чем достаточно. Поначалу он было и устраивался там — у раскрытого окна на своём четвертом этаже, с заменившим трубку стаканом чая. Благодать! Никто не шмыгает под носом, никакая Лидия Викторовна не заговаривает об осточертевшем Славике, серебряный подстаканник под рукой, а обзор, обзор! Так что же не сидится вам у себя, товарищ Черчилль? Почему что ни день степенно сходите вниз и часами восседаете у подъезда? Почему вы, Круталиха и Петрова, снова завели нескончаемую свару? «Опять картошку жарят?» — высунувшись в окно и ни к кому вроде бы не обращаясь, спрашивает одна, а другая ответствует с нижнего этажа: «Да, жарят. А что? Нельзя разве?» — «/Аожно. Только зачем же на масле прогорклом? Развела вонь…» Это уже не просто оскорбление, а оскорбление публичное: вон сколько распахнутых окон, и все насторожились, все слышат. «Сама ты прогоркла!» — летит снизу. И пошло… «Перестаньте, наконец! — выйдя на балкон с Атласом в руках, урезонивает Лидия Викторовна. — Вы же не в бараке».
И правда! Все разом вспоминают, что барака нет, снесли, и живут они в благоустроенном доме, о котором столько грезили и на который столько возлагали надежд. Свершилось! И подстёгивают радость, и удивляются неблагодарно–короткой памяти своей, и, оглядываясь вокруг, твердят: квартира! Моя квартира! Это означает, что, выйдя из комнаты помешать кашу, не заденешь задом Салтычиху, которая в ведёрной кастрюле творит борщ, дабы потом хлебать его неделю, неусыпно следя за грушей. Не заденешь, поскольку кухня — с водой, сливом, тремя газовыми конфорками (тремя!) — в полном твоём распоряжении. Что хочешь, то и делай, хоть пляши!
Однако лестничная площадка — общая, и уж здесь‑то обязательно встретишь кого‑нибудь у мусоропровода. Как же не сказать человеку слово? Он — в ответ. И вот уже ведра стоят, беседа идёт и мало–помалу становится общей, вовлекая все новых соседей, выглянувших на шумок с каким‑нибудь маленьким — для приличия — свёрточком или засохшим цветком, который именно сейчас приспичило выкинуть в мусоропровод. Ни в одном доме не видел я столько судачащих на лестнице людей. Двери при этом открыты настежь, чтобы не прозевать закипевший чайник, и эти‑то распахнутые двери, эти снующие туда–сюда люди, эти громкоголосые переговоры через окна и балконы порождают у постороннего человека, каким в данную минуту являюсь я, полную иллюзию ушедшего в небытие барака. И знаете, как‑то веселей на душе становится. Это у меня, который никогда не жил там, а что же с тех взять, кто в бараке вырос?
Хромоножка обмолвилась раз, что Славик загремел в тюрьму с тоски по бараку. Прозвучало это эффектно, но даже если делать поправку на то, что у бывшей мечтательной девочки, превратившейся в хриплую толстуху, обнаружилась с некоторых пор чрезмерная склонность к парадоксам, трудно все же не увидеть в её словах крупицы истины.
Славик в моих глазах олицетворял тот дух веселья и беспечности, который манил меня в барак, когда в нем уже давно не было Вали Буртовской (мы в шестом классе учились, когда им дали квартиру). Наведывался я сюда тайно, ибо воспитывающая меня бабушка, как и многие в нашем дворе (большинство), считали барак рассадником зла. Она говорила: «Как ты себя ведёшь? Из барака, что ли?» А если я приносил двойку, то: «Ничего, ничего! Будешь всю жизнь в бараке жить!» — искренне полагая, что ничего ужасней такой судьбы быть не может.
Легче всего, казалось бы, опровергнуть это ссылкой на удачливых выходцев из барака. Вот вам чемпион по велоспорту Миша Хитров, вот Римма Федуличева, именитый адвокат, заведующая юридической консультацией; вот, наконец, «наши голубки», трогательная чета, которая дождалась‑таки своего часа. Прежде жили с детьми, каждый со своими, а теперь — отдельная квартира. Оба на пенсии, оба всюду вдвоём — на рынок, в прачечную, театр…
Недавно я видел их на набережной Ригласа. Одной рукой он благоговейно придерживал её за локоть, а другой жестикулировал, говоря что‑то. Она поглядывала на него с весёлым удивлением. Он замолкал, сияющий, с лукаво вскинутыми седыми бровями…
Однако не на благополучных судьбах буду строить я свои доказательства в запоздалом споре с бабушкой. Тем более что при ближайшем рассмотрении (а я в своё время предпринял такую попытку: см. повесть «Черная суббота» — про Римму Федуличеву) — при ближайшем рассмотрении даже самый везучий человек может оказаться не таким уж счастливчиком. Мы на других посмотрим. На тех, кто при всех коленцах и подарочках судьбы не спешит зачислить себя в её пасынки. Я подумал об этом, когда, уступая орущим «горько!» гостям, Зинаида неторопливо подставила Ване Дудашину губы и тут же, за столом, поправила их алой помадой в перламутровом, с золотой каймой, футляре, глядясь, как в зеркало, в матовый экран телевизора.
Спокойно относилась она и к своей яркой, нерусской какой‑то красоте, и к многочисленным поклонникам своим. «Ну чего, чего кадришься? Время зря теряешь… У меня ведь есть любовничек. Али не знал?»
Бедняга, опешив, глупенько похохатывал или от отчаянья и позора (на людях ведь!) опрокидывал стакан самогонки, а Зинаида: «Во–во! Выпей лучше!» И, отщипнув виноградину, двумя пальцами аристократично так клала в рот.
Её первый муж, завиральный малый с мягким украинским говорком, познакомился с ней в своей воинской части, где она работала по добровольному женскому набору, который одно время практиковался у нас. Юбка защитного цвета, гимнастёрочка, галстук и особенно пилотка шли ей необыкновенно. Лениво покачивая высокими бёдрами, вышагивала она по светопольским улицам, и, кажется, не было мужчины, который не задержал бы на ней взгляда. «Вишь как на жену твою пялятся!» — с некоторой даже ленцой в голосе говорила Зинаида, а Гришка млел и таял. Он был тщеславен — качество, которое в Зинаиде отсутствовало напрочь. Училась она плохо. «Дурой родилась, дурой помру…»
Не знаю, чего больше было тут: безразличия к благам, которые якобы даёт образование (первейшая барачная заповедь гласила: учись — человеком станешь), или врождённого, биологического — так скажем — оптимизма. Все уладится, верила она. С земли не сгонят, дальше фронта не пошлют…
Лишь одного смертельно боялась она, даже бледнела смуглым лицом, — что Гришка уведет сына. Не заберёт, не отсудит, а именно уведет. У него уже была другая семья, но в бараке он время от времени появлялся — с подарками, улыбочками, ласковоши речами и фантастическими россказнями, которые если мы поначалу слушали с разинутым ртом, то что с ребёнка взять! Он смотрел на отца с обожанием. Случалось, тот брал его с собою — в новый свой дом, и ему там, видела встревоженная Зинаида, нравилось. Обласканным и одарённым возвращался оттуда — в барак, где мать пилила за грязную обувь, за гулянье допоздна, за первые двойки… На сына, заметьте, не распространялась жизненная философия матери: все образуется…
Однажды Гришка не казал носу месяца четыре — в командировке был, а когда пришёл, то мальчик, оглушённый, не мог слова вымолвить. Равнодушно скользнул взглядом по московским гостинцам, а если веселящийся отец очень уж досаждал вопросом, бурчал в ответ что‑то нечленораздельное. Зинаида поставила на стол вино, Егору лимонада налила, и семейное застолье вступило в свои краткосрочные права. «Мне пора, — спохватившись или сделав вид, что спохватился, сказал Гришка. — Ты проводишь меня?» — сыну. Тот сидел, не подымая глаз, с фужером у рта, и вдруг в тишине (Гришка, осклабившись, ждал ответа) раздался хруст: то зубы мальчика, сжавшись, раздавили стекло.