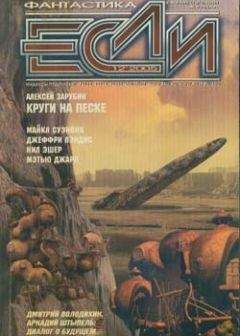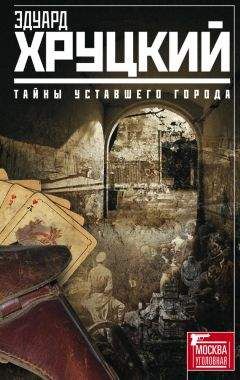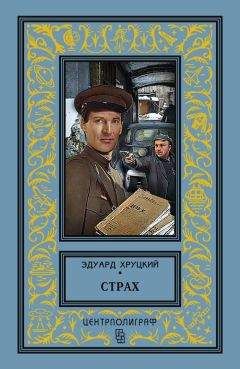Эдуард Хруцкий - Этот неистовый русский
— Любопытно, — привстал в санях губернатор. — В духе французских романов господина Дюма. Эй, — крикнул он приставу, — кто такие?!
— Изволю доложить, ваше превосходительство, братья Харлампиевы. Да господин почмейстер лучше скажет. Алексей Тихонович, пожалуйте к его превосходительству.
Из толпы зевак вопросительным знаком на ножках выплыл почмейстер.
— Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, бывший мой чиновник, коллежский регистратор Егор Харлампиев, личность подозрительная и крайне безнравственная. Уволен со службы за поступок с чиновничьим званием несовместимый. Да, извольте, ваше превосходительство, какой либерал! Утром по лестнице присутствия на руках пошёл, забыв что там особы чином повыше.
— Как так на руках? Молодой чиновник? У вас? Да если осе в губернии на руках ходить начнут? Нигилизм! Да-с, милостливый государь, нигилизм! Сначала неуважение к чинам, а потом… — губернатор повёл рукой у самого почмейстерского носа. — Немедленно пишите прошение о лишении его чиновничьего звания. Немедленно!
— Слушаюсь, ваше превосходительство.
— Ступайте прочь!
Почмейстер всё так же спиной заскользил в толпу. Несмотря на мороз, от него, как от загнанной лошади, валил пар.
А между тем противники остались в одних рубахах. Стали стенкой — десять против троих. Петька исподлобья оглядел своего противника. Что говорить, крепок, плечи, грудь выпуклая! Но куда ему… Куда? Петька примерился и с плеча — раз!
Как-то на мельнице заартачилась лошадь, забилась в постромках, так же тогда приложил он ей кулак-кувалду. Та только дёрнулась, да из ноздрей кровь и всё.
Нет человека, который бы от такого удара устоял. Но почему-то вдруг острая боль под ложечкой заставила купца согнуться вдвое. Потом он щекой почувствовал холод снега, и, корчась на снегу, всё никак не мог справиться с комом, катающимся в желудке.
Когда наконец Рогов смог дышать и приподнялся на локтях, то увидел, что четверо его дружков, выплёвывая чёрные сгустки крови, словно слепые, ползают по льду. И эти трое стоят, как стояли. «Ну гады, я сейчас»… Он подполз к шубе, рванул из кармана заветную рукавицу. В ней была заложена тяжёлая свинчатка. Давясь матерщиной, бросился на своего обидчика. Вся злость вложена в удар.
Егор Харлампиев увернулся случайно. Просто решил посмотреть, как дела у младшего брата. По скуле словно кувалда проехала. «Закладка», — обожгла мысль.
Он повернулся, левой рукой отбил в сторону новый удар, а правой, с прыжком, прямо по мясистому подбородку.
Петька, как во сне, сделал шаг вперёд, выплёвывая зубы, и рухнул, звонко лбом ударившись об лёд.
Егор оглянулся. Братья не подкачали. Семь Петькиных подручных лежало. Двое бежали в сторону Смоленска, а вслед им улюлюкал, свистел берег.
Вся Рачевка повалила в роговский трактир распивать выигрыш. Егор, морщась от боли, натягивал шинель. Братья прикладывали к синякам снег, вытирали кровь.
Щеголеватый пристав в гвардейского сукна шинели, аккуратно придерживая шапку, спускался на берег.
Подошёл, малиново звеня шпорами, небрежно руку в белой перчатке к козырьку.
— Господин Харлампиев, — процедил сквозь зубы, — кто позволил вам избивать почтенных граждан города Смоленска? — А голос переливался словно полицейский свисток.
— Это кто же почтенный гражданин? — Егор Харлампиев усмехнулся приставу прямо в лицо. — Этот? — он кивнул в сторону Петьки, которого тащили под руки двое приказчиков. — Этот? — повторил он громче и злее. — Кровосос он. У него в бараках рабочих червивым мясом кормят.
— Вздор-с. Да за такие слова! Молчать!
Шпоры от возмущения зазвенели сами.
— Я вам покажу! Я вас…
— Не пугайте, не надо, господин капитан. Мы, видите ли, не из пугливых, как вы успели убедиться.
Егор повернулся и пошёл к берегу. А вслед ему грозили, неистовствовали шпоры.
* * *Георгий Харлампиев, или, как его звала вся Рачевка, Егор, жил в маленьком двухэтажном доме на самом краю слободы. Но прежде чем начать рассказ о нём, нужно непременно рассказать об этой слободе.
Стояла она на горе, у подножия которой вились ручейки и речушки, вливающиеся в Днепр. Здесь-то и образовывал Днепр свои старицы. Сразу несколько. Лeтом они зеленели тиной, покрывались изумрудной ряской. Водилась в них пропасть раков. Жители слободы таскали их сотнями. У каждого был свой секрет приманки. Со слободы отправлялись раки на рынок. Вот по имени этих-то малоприятных на вид обитателей Днепра и получила своё название слобода.
А кто жил там — понятно. От хорошей жизни не понесёшь на рынок покрытого слизью «гада». Жили в Рачевке мелкие кустари, рабочие-мукомолы, деповцы да обедневшие интеллигенты.
Семью Харлампиевых уважали. Даже самые горластые забулдыги, выйдя из кабака, давились песней у их дома. И только дойдя до угла, продолжали рассказ о том, как шумел камыш.
Жили Харлампиевы бедно.
У Георгия Яковлевича семья была большая — сын, гимназист Аркаша, и три дочки.
Принцип в доме был такой: любой труд, если он честный, достоин уважения.
Сам Георгий Яковлевич, после того как лишился чиновничьего звания, окончил ветеринарное училище, стал фельдшером. Он надолго уезжал в уезды. Аркаша учился в первой Смоленской гимназии, учился хорошо; он знал, что только первые ученики из бедных освобождены от платы за учение.
Утром, наскоро выпив чай с булкой, он через весь город бежал в гимназию. Любил ли он учиться? Трудно сказать. Мучительно почти пять часов сидеть в классе, кисло пахнущем чернилами. Мучительно и скучно повторять никому не нужные глаголы мёртвых языков, когда за окном шумит смоленский парк, чуть дальше — Днепр, плоты, на горе развалины крепости короля Сигизмунда. Как он любил эту крепость! Каменные ступени, казалось, хранили ещё следы беспечных польских гусар. Здесь, в этих тёмных переходах, жестоко рубились они. Спускаться в подвал было опасно. Туда вела истлевшая от старости деревянная лестница. Но именно там, в подвале, и было самое главное, было нечто оставшееся от тех далёких времён. Он всё же решился. Взял свечу и старый кондукторский фонарь. Пошёл один. Специально. Чтобы побороть страх, тисками сжимавший его сердце.
В сторожевой башне, глухой и мрачной, куда пробивалась лишь узкая полоска света сквозь бойницы, Аркаша зажёг фонарь. На грубоотёсанных камнях заплясали причудливые тени, и сами камни ожили, они менялись, изъеденные веками, они уже стали лицами с глазами, морщинами. Они смотрели на мальчика вековой мудростью, памятью столетий.
Аркаша сделал шаг, другой, подошёл к люку. Квадратный проём звал его вниз. Страха уже не было. Какое-то странное чувство овладело им. От какой-то странной радости готово выскочить сердце из груди. Он знал, что здесь порог необычайного, ещё не познанного.
Аркаша сделал первый шаг. Страж таинственной страны — лестница угрожающе скрипнула. Она сказала: «Стой»! Ещё шаг, и опять скрип, более зловещий. Он сделал ещё шаг. Потом ещё и ещё.
Вот он подвал! Вот оно, святая святых королевского замка!
Под сводами подвала гулко разносились звуки шагов. Ему казалось, что это бьётся сердце, так же гулко и тревожно. Здесь света не было. Только жёлтое пятно фонаря на секунду разрывало мрак, а потом он вновь смыкался за его спиной.
Внезапно впереди мелькнул свет. Воздух сразу стал чище. Ещё несколько шагов, и Аркаша увидел пролом в стене. В лицо ударило речной свежестью. Аркаша высунулся и зажмурился от солнца, казавшегося особенно ярким после сырой темноты подземелья.
До чего же красиво! Город лежал внизу словно театральный макет, зажатый серебристой подковой Днепра. Аркаша потушил свечу в фонаре, сел и стал смотреть на город, на лёгкие облака за Днепром. Потом он часто приходил сюда. Он любил смотреть на Смоленск через проём крепостной стены, который был похож на картину в раме из разбитого камня.
Однажды он нашёл там чугунное ядро с прикованной к нему цепью. Конечно, мальчишка не мог оставить в замке столь ценную находку. Весь день он волоком тянул ядро в слободку.
Егор Яковлевич, вернувшийся из уезда, с интересом осмотрел находку.
— А знаешь, — сказал он, — ведь ядро тебе очень пригодится. Поднимай его вместо гири. Не бойся, что тяжёлое. Наступит день — осилишь.
Дни тянулись медленно, словно телега по размытым колеям. Неторопливое губернское время.
На книжных полках дремали куперовские индейцы, спали вечным сном гусары под могильными плитами.
И опять в мундирчике не по росту и в мятой фуражке Аркаша торопился в гимназию. Стеклянные двери классов, преподаватели в сине-зелёных мундирах.
— Харлампиев Аркадий!
Голос у латиниста тягучий. В глазах скука. Вицмундир сидит на нём как влитой — первый щёголь в гимназии. И прозвище своё имеет — Ландрин.
Аркадий встаёт, двумя руками одёргивает курточку.