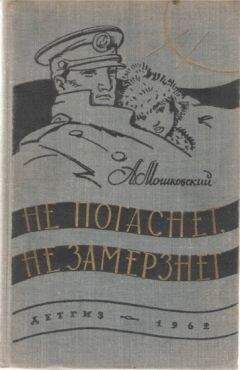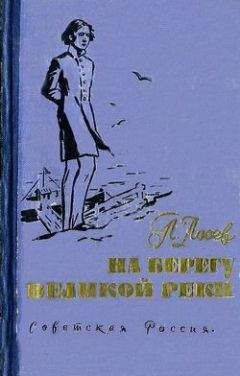Анна Караваева - Родина
«Вот возьми его! — позавидовал Сунцов. — Дрыхнет-то как, словно дело делает!»
Сунцов постучал в комнатку Шаниных.
Увидев Анатолия, Юля испуганно подбежала к нему:
— Толечка, что с тобой?
— Что, что… Позор получился — вот что.
Анатолий сел на низенький топчан и, закрыв лицо руками, некоторое время сидел в этой позе, будто придавленный своими тяжелыми думами. Потом, рассказав Юле об унижении, которое пережил он сегодня, добавил с безысходной горечью:
— Мне все ясно: Чувилев и Семенов меня презирают.
— Но ведь тебе же никто худого слова не сказал, Толечка! — утешала его Юля.
— А я сам, я сам? От своей совести не скроешься! — и Сунцов скрипнул зубами, как от боли. — Теперь победа числится только за нашими Игорями… и правильно, правильно!
— Но ведь ты и Сережа все время работали, вы же только вчера на один день выбыли…
— Побеждает тот, кто держится до конца! — горько прервал Сунцов. — А мы, пусть на один день, а все-таки отступили! Значит, такой уж я нестойкий человек… Ты меня знаешь лучше других, а вот никогда ни одного замечания я от тебя не слыхал! Эх, Юля, Юля! Зачем ты меня не критиковала?
— Я? Тебя — критиковать? Да что ты, Толечка! Разве я могла бы тебя критиковать? — повторяла безмерно изумленная и расстроенная Юля. — Ведь мне всегда так хорошо с тобой…
Снизу, из передней, доносились оживленные голоса обоих Игорей и Сони. Потом лестница на мезонин заскрипела от дружного топота.
— Идут! — шепнул Сунцов и вдруг, смешно сгорбись, забился в уголок, между окном и висящими на стене женскими платьями, покрытыми торчащей волнами накрахмаленной марлей.
— Юлечка, я посижу у тебя немножко, — зашептал Сунцов. — Я не могу сразу выйти к ним. Ты не говори, что я здесь.
— Хорошо, — прошептала Юля, заражаясь его страхом.
Четверть часа оба сидели молча, прислушиваясь к дыханию друг друга. Потом Сунцов неловко поднялся, погладил свои волосы и тяжело вздохнул..
— Нет, я не могу… я должен поговорить, выяснить…
Сунцов остановился в дверях, — лицо его выражало сильнейшее волнение. Потом он схватился за голову и вбежал в комнату чувилевской «четверки».
— Ребята! — жарко выдохнул он, почему-то видя перед собой только прозрачную грушу лампочки под потолком. — Слушайте, ребята, я позорно отступил, мне стыдно за себя… и я больше никогда…
— Садись, — спокойно сказал Чувилев и, взяв его за плечи, усадил на табуретку. — Вижу, ты этот случай запомнишь.
— Игорь! Друг мой! — горячим шепотом вырвалось у Сунцова. Он стиснул локоть Чувилева и прижался лицом к его широкому плечу.
— Ну, ну… образуется… — смутился Чувилев. — Чаю хочешь?
Сунцов отрицательно и радостно затряс головой и тут увидел Сережу, который, скорчась на постели, как перепуганный заяц, лежал лицом к стене.
Сунцов подскочил к нему и крикнул:
— Довольно прятаться! Вот хитрый, дьявол!
Одним рывком он поднял товарища с постели, но глянув на него, слегка попятился: веснушчатое, лисьего овала личико Сережи было залито слезами. Глаза его, распухшие, слипшиеся, беспомощно моргали, губы хотели улыбнуться — и не могли.
— Да ладно, ладно! — вдруг заорал Игорь Семенов и сильным движением встряхнул Сережу за плечи. — Ну, не болван ли этот Сережка, братцы-морячки? А?
Сережа стоял как побитый, чем окончательно вывел из себя Игоря-севастопольца.
— Какого, в самом деле, черта… В глотке пересохло, а никто палец о палец не ударит, чтобы чайник вскипятить! Уж ладно, напою я вас шампанским, рохли сухопутные!
Игорь-севастополец схватил со стола чайник и пулей вылетел из комнаты.
* * *Свой доклад на стахановском совещании Евгений Александрович готовил долго и тщательно, стараясь не упустить ни одной цифры, ни одного показательного факта в отрицательном или положительном смысле. Построив доклад «в объективно-спокойных тонах», он отметил «с положительной стороны» и опыт чувилевской бригады.
Евгений Александрович все время, пока делал доклад, видел перед собой немного поднятое вверх лицо Артема Сбоева, его зеленоватые глаза, которые, казалось, спрашивали: «Ну, теперь-то вам, конечно, все ясно?» Да, теперь ему было ясно, а в то же время все вокруг раздражало Челищева: этот еще мертвый мартеновский цех с разломанной печью и серыми грудами шамота, бесформенные очертания кладки еще двух мартенов, металлические конструкции, сваленные на полу, бревна, доски, пыль, непорядок. Президиум разместился на площадке перед печью. Остальные участники собрания сидели на бревнах, на ящиках, на чурбаках. Столом служил длинный узкий ящик, покрытый полосой красного сатина; слышно было, как кто-нибудь, забывшись, ударялся то локтем, то коленом о грубые деревянные стенки ящика. Челищев нервно вздрагивал при этих стуках, вспоминал уютный, залитый светом бронзовых люстр большой зал заводского клуба в довоенное время. «Сидим вот, как цыганы в таборе», — тоскливо подумал он, оглядывая своды цеха, едва наполовину освещенного несколькими лампами.
Неподалеку от Артема Сбоева сидела чувилевская «четверка», в сторону которой Челищев старался не смотреть. Вчера вечером вернулся из Москвы директор Назарьев, который в разговоре с ним дал обещание быть на стахановском совещании. Челищев «в самых общих чертах» рассказал директору о событиях в цехе, особенно выделив в своей передаче моменты, когда, осознав свою ошибку, он пытался «ликвидировать конфликт миром», — разве мало его раскаяния? Но уж если партийная организация считает этот конфликт общественным достоянием, Евгений Александрович, как дисциплинированный человек, «готов стать под удары критики», но для него, старого инженера, это «жестокое испытание». Директору известна его прошлая безупречная работа, тяжелые испытания, пережитые за эти два года, — но он любит завод!.. Директора раздражают люди, легко «отвлекающиеся» в сторону каких-то иных забот, пусть даже и самого благородного свойства, как, например, восстановление города. «Отвлечение сил» на языке директора означает: «Вы мало любите ваш родной завод!» Как это видно по всему, Назарьев намерен в будущем вернуть Челищева к прежней руководящей роли именно потому, что Евгений Александрович предан только заводским делам и мечтает только об одном: скорее восстановить завод, завод! Парторг, завком, комсомол поддерживают «чувилевскую четверку», а директор, несомненно, поддержит старого заводского работника Челищева, отведет от него слишком резкие упреки и таким образом ослабит боль поражения. Евгений Александрович разными путями разузнал, что поездка Назарьева в Москву была очень удачной, все просьбы директора в наркомате поддержали, что в простом, житейском смысле значило — похвалили, а от похвал люди бывают добрее.
Увидев Николая Петровича в президиуме, Евгений Александрович сразу воспрянул духом и начал сжимать свой неторопливый доклад: всем известно, что «у Назарьева не наговоришься». Но неторопливая обстоятельность челищевского доклада, к тому же первого на повестке дня, уже раздражала кое-кого. Послышались громкие напоминания:
— Регламент, регламент!
— Успокойтесь, я кончаю, — ответил Евгений Александрович. — Возможно, я в чем-нибудь и ошибался, но… уверяю вас, мной руководила любовь к заводу.
Евгений Александрович сел, вытирая лоб и чувствуя, что конец своего доклада «скомкал самым неудачным образом».
Первой в прениях выступила тетя Настя, показав полную осведомленность завкома «во всей этой истории».
— Чем же начальник механического цеха подкреплял свои доводы? Во-первых, нигде и ни в чем не желал он, видите ли, рисковать, а во-вторых, «не помнил» он таких фактов в истории Кленовского завода в довоенное время.
— Я так любил наш завод, созданный пятилетками, как, может быть, вы не любили его, Настасья Васильевна! — с горькой обидой воскликнул Челищев.
— Любить дело — это похвально, — упрямо тряхнув дымнорыжей головой, возразила тетя Настя. — Мать дитя свое тоже любит, а ребенок на глазах ее растет, меняется, и любовь уже иной становится. Нам пятилетки были дороги, по пройдет год-два — и будет новая сталинская пятилетка, и мы уже ей навстречу идем…
— Товарищ Челищев все на вчерашний день оглядывается! — начал свою речь Косяков. — Он не понимает главного: все то, что наши заводские люди делают, не повторяет вчерашнего, а идет навстречу новым делам и задачам, и сегодняшний наш путь куда труднее, — каждый на себе чувствует, какие тяготы и заботы мы, рабочий класс, на свои плечи взяли… и выполним их!
— Верно, верно! — зашумели и захлопали в ответ.
— Мы возрождаем жизнь не как терпеливцы какие-нибудь, а с гордостью в душе, как творцы, для которых нет невозможного! — говорил Артем с азартом страстно убежденного человека. — В чем ваша трагедия, товарищ Челищев? Не признаваясь в своей отсталости, вы хотели подмять, затереть стремление других итти вперед, к которому вы были не готовы, к даже обманывали свою совесть тем, будто вы заводскую дисциплину укрепляете, а в действительности-то вы рабочей мысли дорогу преграждали. Вы закрывали двери перед рабочей инициативой. Передового рабочего такие факты наводят на печальные размышления: как бы с его полезными для завода новаторскими предложениями не нарваться на подводные камни, как бы не нарваться на подобное запрещение?