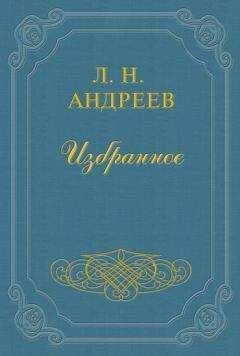Мария Красавицкая - Если ты назвался смелым
— Чтож, товарищ Баранаускас давно зарится,— съехидничал Петька.— Все-таки лишние денежки. Опять же и слава.
Славка посмотрел на Грачева тяжелым, неотрывным взглядом. Мне показалось, сейчас ударит. Но Славка сказал неожиданно спокойно:
— А ты и на самом деле дурак, Петька! — Отошел к стенке, надел рукавицы, протянул мне мои.— Давай, Рута, быстренько, пока раствор не схватился.
— Бракодела к работе не допускаю! — Петька вырвал у меня рукавицы.
Славка только зубы стиснул так, что желваки прошли по щекам. Отдал мне свои рукавицы, сам стал работать голыми руками.
— Товарищ мастер,— обратился Грачев к Лаймону,— официально, так сказать, заявляю: или бракодел в бригаде, или я.
— Бросьте, ребята!—Лаймон попытался кончить дело миром.— Вот не вовремя шум затеяли.
— Очень даже вовремя! — вскипятился Тадеуш.— Учили-учили, а при первой же ошибке: вон! Так кидаться людьми—многих скоро не досчитаемся. Пусть уходит к чертовой матери! Нет бригадира, и это не бригадир.
— Правильно! — загалдели ребята.
— Ах, так! —Петька повернулся на каблуках, пошел к лестнице.— Вы еще об этом пожалеете!
— Проваливай! — напутствовал его Тадеуш.— Посиди денек на совещании где-нибудь, авось, на досуге опомнишься!
— Неладно, ребята! — покачал головой Лаймон, когда Петька в развевающемся плаще промчался через двор и скрылся за воротами.
— Помалкивал бы ты! — резко сказал Славка, не глядя на Лаймона.— За брак, что бригадир, что мастер— оба в ответе. Неопытность твою ребята пощадили. Так что молчи уж, набирайся ума! — Он обернулся ко мне.— За дело. Рута!
От Славкиных слов Лаймон как-то скис и тотчас ушел.
Говорят: ломать не делать, сердце не болит. Ох, как болело у меня сердце за каждый сброшенный кирпич! Казалось, вот еще рядок, и хватит. Но Славка спускал отвес, неумолимо твердил:
— Еще!
К концу дня испорченную часть стенки разобрали. Подошел Лаймон, спросил у Славки:
— Может, отказаться от перекрытий? Чем на землю их сгружать, лучше послезавтра уложим.
— Мы с Рутой останемся,— ответил Славка,— и к утру все поправим.
— Может, лучше из ребят кого оставить?
— Мы с нею виноваты. Нам и исправлять.
— Ты-то при чем?
— При том. Должен был смотреть…
Лаймон потоптался, ушел вниз. Разговаривали они, не глядя друг на друга. И мне было неприятно, больно слышать все это и видеть.
Трудная ночь
И вот мы вдвоем со Славкой. Я расстилаю раствор, раскладываю кирпичи. Славка укладывает их на место, обрабатывает швы. Часа два работали молча. По временам Славка насвистывал. Потом снял рукавицы, сел на край ящика с раствором.
— Давай, Рута, перекурим. Садись! — Положил на край ящика свои рукавицы, показал мне на них.
Если я сяду, обязательно коснусь его плеча. Сажусь, стараясь не коснуться. И, конечно, касаюсь.
— Вот что, Рута,— начал Славка, и сердце у меня замерло.
А он долго молчал. Спросил неожиданно:
— Деньги у тебя есть? Здесь, с собой?
— Нету.
— На.— Вынул из кармана трешку.
— Зачем?—недоумеваю я.
— Сбегай в магазин. Купи чего-нибудь поесть. Сахару купи. Чай согреем.
Вот и все, что он мне сказал. Стоило волноваться!
Сходила в магазин. Снова работали, пока не стемнело. И странно — ничуть я не устала. Могла бы работать и работать. Но Славка сказал:
— Все. Пойдем чай греть.
Неловко, трудно было нам с ним наедине в конторке. Ужинали молча. Гудел в печурке огонь.
— Устала? — спросил Славка и посмотрел на меня теплым, добрым взглядом.
— Нет.
— Устала, чего там. Ложись спать, вот сюда, на лавку. Ближе к печке: теплее.
Ребята, которым приходится ездить на работу в трамвае, оставляют в конторке ватные куртки. Славка принес две куртки, свернул, положил мне вместо подушки.
— А тебе? — спросила я и, волнуясь, ждала ответа. Вдруг он скажет: «А я рядом». Но Славка сказал:
— Я по-солдатски. Ложись.— И вышел из конторки.
Легла. Прижалась к стенке. Половина лавки осталась пустая. Войдет, увидит, поймет. Лежала и вся дрожала, хотя в конторке было жарко.
Славка долго не шел, словно давал мне подумать. Но я ни о чем не думала. Я только ждала его.
Наконец вошел. Погасил свет. Осторожно сложил у печки дрова. Набил ими печку. Сел перед открытой дверцей. Закурил. Как он может спокойно курить? Нескончаемо тянулись минуты.
Славка бросил окурок в печку, закрыл ее. Стало совсем темно. По шороху догадалась — снимает куртку. Один за другим со стуком упали на пол сапоги.
И он ложится… на соседнюю лавку. Слушаю, как он дышит. И он тоже не спит — тогда дышал бы ровно, глубоко. А он затаился. Нет, не спит.
Гудит в печке пламя. Потрескивает что-то в жестяной трубе.
Лежу и беззвучно плачу, плачу в жесткую свою подушку. Плачу до изнеможения. Со Славкиной лавки не доносится ни звука, ни скрипа. Наверно, уснул. Незаметно засыпаю и я.
Просыпаюсь оттого, что в печке весело потрескивают дрова.
Я одна. Славки нет. Только куртка его лежит у меня на ногах.
Робкий рассвет смотрит в окошко. Встаю. Умываюсь.
На печке горячий чайник. Но до еды ли мне? Иду во двор.
— С добрым утром! — приветствует меня сверху Славка.— Как спалось? — Мне чудится издевка в его голосе.
— Спасибо.
И снова я расстилаю раствор, кладу кирпичи. Славка укладывает их в стенку. Поторапливает:
— Жми, Рута, жми! До прихода ребят надо закончить!
Вот и красные кирпичи пошли вперемежку с белыми. Славка остановился передохнуть, закурил. Выпустил несколько красивых колечек дыма, последил за ними глазами. Потом глянул на меня. Только теперь я заметила, какие усталые, обведенные кругами у него глаза. Посмотрел, отвел взгляд.
— Вот так, Рута.— Будто подвел последнюю черту под нашими отношениями.
Все виноваты!
Удивительный человек наш начальник участка Иван Алексеевич. Иногда смотришь на него — старик стариком. Голова совсем белая, с коротко остриженными волосами, круглая, как шар. Припухшие веки того и гляди опустятся на глаза, уснет на полуслове. Губы вялые, стариковские. Вид безразличный, равнодушный, усталый. А то вдруг, вмиг на глазах переменится, словно живой водой его спрыснули. И тогда глаза становятся совсем молодые, с хитрецой. Улыбается, шутками сыплет направо и налево.
Вот таким и явился он к нам в это утро. Наши еще не собрались. Мы со Славкой сидели в конторке. Иван Алексеевич посмотрел лукаво:
— Рано, рано пришел, Баранаускас. С девушкой! — Подмигнул веселым карим глазом.— И то пора кончать холостую жизнь.
Славка шутку не принял, суховато объяснил, в чем дело.
— Ай-яй! — Иван Алексеевич покачал головой-шаром.—Все исправили, говоришь? Как следует? Пойдем-ка, посмотрим.
Пока они ходили по стройке, собрались наши. Только Петьки не было.
— Устала?—пытливо глядя мне в глаза, спросил Лаймон.— Шла бы спать.
Какой там сон! Я насилу наших дождалась. Все-таки с ними легче мне!
— Буду работать,— ответила я Лаймону. Явились начальник и Славка. Ребята взялись было разбирать инструмент, рукавицы.
— Погодите,— сказал Иван Алексеевич.— Разговор есть. Садитесь.
Вытащил из кармана очки, лист бумаги, на котором что-то было напечатано на машинке.
— Вот такой приказ, ребята.— Начальник переглянулся с Лаймоном.— Параграф первый. Бригадира третьей бригады Грачева П. Е., согласно его личной просьбе, перевести бригадиром в отстающую пятую бригаду. Параграф второй. Бригадиром третьей бригады назначить каменщика Баранаускаса Ч. А.
Вот уж словно обухом по голове. Сидим, не смотрим на Ивана Алексеевича.
Он глянул поверх очков, сказал:
— Так я и знал: устроите панихиду. Нехорошо, ребята! Народ сознательный, понимаете, что у вас две матки в одном улье. А там, в пятой, худо. Понимаю, жалко вам Грачева. Но вот он-то, Грачев, сам понял: надо.
Иван Алексеевич долго распространялся, какой-де, Грачев хороший, как он поднимет пятую, отстающую.
У меня тоскливо сжималось сердце. Как же так? Если б Славка вызвался в пятую, отстающую, я бы это поняла и приняла. Но Петька, лопающийся от важности! Что же он-то может сделать там полезного?
Ребята молчали. Я подумала, что неправа. Они лучше меня знают Петьку. А я сейчас просто зла на него за вчерашнее, хотя во всем сама виновата. И если Тадеуш вступился за меня, то, наверно, потому, что пожалел. Куда бы я пошла со своим вторым разрядом, я, не умеющая проверить вертикальность стенки по отвесу?
И все-таки что-то во мне противилось, не соглашалось с мыслью, что Петька Грачев идет на помощь в отстающую бригаду.
Тем временем Иван Алексеевич оглядел нас еще раз по очереди, спросил устало:
— Ну, что ж молчите?
И тогда звонко, на всю конторку, расхохоталась Расма.
— Ой, не могу! — выкрикивала она.— Наш Петька— гагановец![9] Ха-ха-ха!