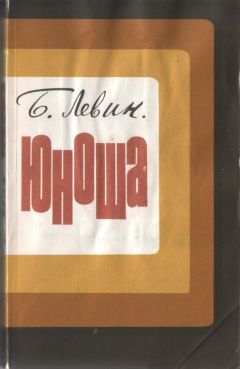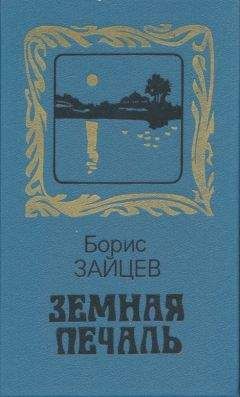Борис Ямпольский - Молодой человек
— Аскольд!
В своей черной косоворотке и кепочке он шагал вверх по Владимирской с перевязанной ремешком пачкой книг.
Я очень обрадовался ему, он был из той, уже забытой жизни, где металлисты, Арсенал, «Ленинская кузница».
— Здравствуй, Аскольд. Что за книги?
— Геометрия, хрестоматия, ботаника, — перечислил Аскольд.
— А что случилось?
— Сам соображай.
— Что, в школу пошел?
— Подымай выше.
— Неужели в рабфак?
— Механического профиля, — уточнил Аскольд.
— А как же ты попал? — вырвалось у меня.
— Мобилизация, — кратко отвечал Аскольд.
Весь этот год я мечтал о рабфаке. А теперь я шел рядом с рабфаковцем механического профиля, я шел рядом с мобилизованным, и Аскольд казался мне высшим существом какого-то иного, недоступного мне мира.
И из этого мира он изучающе глядел на меня.
— Работаем или учимся?
— Работаю и учусь, — сказал я неожиданно.
Мне было совестно, что я еще ничего не добился.
— Я знал, что пробьешься, — сказал Аскольд.
Рабфак не давал мне покоя.
— И физику учите, и химию? — допытывался я.
— Больше, чем в гимназии, — отвечал Аскольд.
— И географию?
— Попробуй спроси, — сказал Аскольд.
— Главный город Аргентины?
— Буэнос-Айрес, — ответил Аскольд с такой важностью, будто отныне ему принадлежал этот город.
— Главный город Монако?
Аскольд подмигнул:
— Монте-Карло. Казино.
Я перескакивал с континента на континент, я сталкивал лбами самые отдаленные государства, от Колумбии до Японии.
Прохожие оглядывались и долго смотрели вслед, так мы громко кричали: «Египет!» И отклик: «Каир!» «Канада!» И отклик: «Оттава!»
— Я пришел, — сказал неожиданно Аскольд, останавливаясь у богатого особняка с каменными фигурами на балконах.
Я с уважением посмотрел на вывеску общежития, которую держала одна из фигур. Это всегда было моей заветной мечтой — жить в общежитии. Все вместе, койка к койке, как в казарме. Подъем! Отбой!
— Можно, я у вас переночую? — сказал я. — А то у меня частная квартира, неинтересно.
Мы шли длинными коридорами, мимо больших комнат, уставленных солдатскими койками.
На тумбочках у железных коек висели большие замки, и тумбочки имели вид сейфов. И на этих тумбочках, на койках, на стульях, на картинах, на кадках с сухими пальмами — повсюду на самых видных местах были приколочены белые жестяные бляхи с выбитыми на них номерами, и казалось, что именно эти бляхи — самое главное, а не сами койки, стулья, картины.
Наконец мы вошли в огромную и высокую, похожую на костел залу, тоже густо уставленную железными кроватями, на которых лежали, или полулежали, или сидели парни и читали книги или, уткнувшись в тетради, писали, а некоторые ухитрялись даже на кроватях чертить.
Голубые русалки, изображенные на стенах и потолке и привыкшие к иной атмосфере, не обращая на странных парней никакого внимания, продолжали свою сказочную, свою русалочью, старорежимную жизнь среди водорослей и золотых рыбок.
Аскольд, проходя между коек, похлопывал ребят по плечу.
— Здорово, Каленик! Одолел печенегов?
— Мм!.. — отвечал Каленик, занятый зубрежкой.
— Здорово, Сорокопуд! — говорил он другому. — А какая формация сменила феодализм?
— Капитализм! — радостно сообщил Сорокопуд.
— Здорово, Швачкин! А что сказал Архимед?
— Дайте мне точку опоры — и я переверну мир! — откликнулся Швачкин.
Так постепенно мы с Аскольдом добрались до круглого окна, у которого стояла его койка.
Из окна видны были крыши, и дальние улицы, и гора, а на горе темный лес.
Но я не смотрел на город, я жадно следил, как ребята читали и писали, как вдруг хмурились, снова и снова перечитывали, а потом как будто каменели, запоминая, и, глядя на русалок, шепотом про себя повторяли прочитанное, и я завидовал им всем сердцем.
И во мне была эта жажда, это упрямство и готовность жертвовать всем для цели.
«И я буду учиться, и я буду рабфаковцем, и я буду вузовцем…»
Аскольд вынул из кармана воблу и стал стучать ею о край стола с такой силой, что похоже было, она в конце концов оживет. Когда вобла стала мягкой как воск, он разорвал ее и дал мне кусок костистой, крепко пахнущей солью, дальним, неведомым морем рыбы.
— Королева морей, — сказал Аскольд, жадно грызя воблу и открывая книгу для чтения.
— Королева, — подтвердил я.
Я был очень голоден.
Ночью я вдруг отчего-то проснулся. При свете коптилки, сделанной из картофеля, Аскольд сидел на кровати и раскачивался над книгой, время от времени ероша волосы, как бы возбуждая свой ум.
Я смотрел на него, и мне хотелось рассказать все: про лотерею, про те угарные дни, и как я перестал ходить на отметку на биржу, потерял очередь, а теперь все надо сначала.
Аскольд откуда-то издалека посмотрел на меня.
— А ну, спроси?
— Абиссиния? — точно пароль, произнес я посреди ночи.
— Аддис-Абеба, — откликнулся Аскольд.
— Исландия?
Аскольд на мгновение задумался.
— Рейкьявик, — подсказал кто-то сонным голоском.
— Сам знаю! — рассердился Аскольд.
— Чили?
— Сант-Яго! — выкрикнул Аскольд.
Сидней… Гавана… Лхасса… Аскольд чувствовал себя властителем вселенной.
И я забыл свое горе. Мир состоял из одних столиц. Столицы были зеленые, голубые, они были желтые, как пески пустыни, и я ясно видел: над минаретами Багдада восходит волшебный полумесяц…
12. Последняя ночь
Я шел мимо Ботанического сада. Падали листья с каштанов, и трамваи медленно подымались в гору.
Листья кружились в воздухе, светлые, печальные, падали на крышу трамвая, на подножки, залетали в вагон; грустно пахло осенью.
Я шел по тихим вечерним улицам. Сколько вокруг освещенных окон, и ни одного для меня!
Город постепенно затихал, гасил огни, не стало прохожих.
Дома стояли темные; освещенные витрины, грустные и голые, лишь подчеркивали пустоту осиротевшего города.
Из подвальных окон кондитерской веяло сладким теплом. Я постоял у вентилятора и погрелся.
— Мальчик, иди сюда!
Девица подмигнула.
— Подержи, мальчик, сумочку!
Я держал ее лаковую сумочку, пока она подтягивала черный чулок.
— Спасибочко, мальчик! — сказала она и снова подмигнула.
Я стоял одуревший и пришибленный потным запахом духов.
Кто она, эта одинокая, с насурмленными бровями и вихляющей походкой, ушедшая под тень ворот? Сверкнула спичка, и она, жадно, быстро затягиваясь, поглядывая по сторонам, курнула несколько раз, и бросила, и потоптала туфелькой, и пошла, вихляя бедрами и беззаботно покачивая сумочкой.
Далекие лунные облака, принадлежащие полям и лесам, чуждо проплывали над городом, не касаясь его жизни, не желая знать его улиц.
Как печальны дома с пустыми глазницами окон, как печальны улицы, когда ветер несет бумажки и сор из подворотен!
Как хорошо в это время сидеть в освещенной комнате и ничего этого не видеть! И читать или играть в шашки.
Я шел темными, длинными, неизвестными мне улицами. Кто-то нетерпеливо звонил у парадного, кто-то долго прощался под каштанами, кто-то звал кого-то, и никто не откликался… Дальние раздавались свистки, слышался топот сапог, случайные рассеянные звуки ночного города.
Я заходил в тихие переулки, тут яснее ощущалась обособленность и уют человеческого жилища. Светились редкие окна. И звучали голоса.
А чье это голое, паутинное окно с одинокой, мигающей, пыльной лампочкой? Кто живет там? Отчего так пустынно и грустно? Кто эта женщина с кастрюлями? Есть ли у нее дети? Счастлива ли она? Может, у нее болен ребенок?
Ничего не может быть хуже, как быть затерянным в этом каменном лесу. Нигде не чувствуешь себя более одиноким, чем в большом городе, среди тысячи тысяч живущих тут людей, когда тебе негде ночевать и ночь застанет тебя на улице. И ветер качает фонари, ветер скрипит сорванными афишами, и все дома серые, каменные. Каменные до ужаса. В подворотнях пахнет мочой, на черных лестницах крысы. А вот чужая дверь, из которой торчит вата и висит какая-то бумажонка: «Сдается угол». Да, да, сдается угол, вот сейчас, среди ночи сдается угол. «Угол» — это звучит как «рай».
Я долго звонил. Я уже дал один короткий и один длинный, потом два коротких и один длинный, и потом такой длинный звонок, что казалось: мертвые и то встанут.
Наконец дверь открылась, на пороге стоял заспанный человек в подтяжках.
— Это у вас угол? — спросил я.
— Какой угол? — взвизгнул он, держась за свои подтяжки, точно боялся, что упадут штаны.
— Я бы хотел снять угол.
— Чего ты мне баки заливаешь?