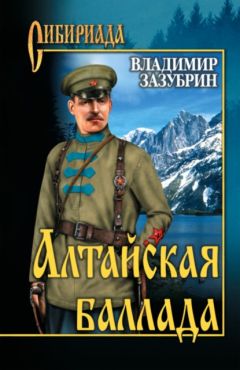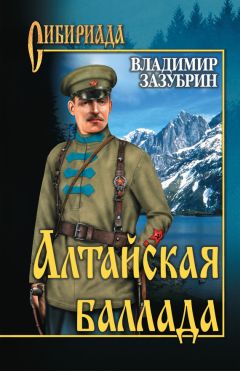Владимир Зазубрин - Два мира
– Мы Колчака видали. Перво-наперво, как пожаловал он к нам, так семьсот человек прямо на месте, в мастерских, к стенке поставил. Пускай кто хочет с ним живет, милуется, а мы не согласны.
Штыки зацепились, стукнули.
– Эй, товарищи, легше с винтовками-то.
– Для чего же было революцию подымать?
– Раз уж взялись поставить свою власть, так и крышка, воюй, пока из последнего буржуя душу вынешь. Борода тяжело вздохнула, потянулась:
– Шестой год, товарищи, воюю.
– Хошь шесть, хошь двадцать шесть, а войну кончить нельзя. Кончим, когда всех господ прикончим. Поторопишься, хуже будет. Опять, идолы, явятся, на шею сядут. Тут хоть за себя воюем, штобы останный раз, значит, и крышка. Больше штоб никаких воинов не было.
Борода уткнулась в землю, засопела.
– Это правильно, они завладают властью, опять с германцем али с кем грызться начнут.
– Так и знай.
– Слюни, товарищи, неча распускать. Буржуев, попов,– генералов, сухопутных адмиралов надо поскорее в бутылку загнать. Тут, товарищи, дело ясное: или они нас, или мы их – мира быть не может. Волк с овцой не уживутся.
– У меня отец с буржуями сбежал. Попадись он мне, не спущу, потому эта война на уничтожение. Кто кого.
– Врешь, Спирька, рука не подымется на отца-то!
Спирька задорно поднял голову.
– Не подымется, как же. Ежели он, старый черт, на старости лет добровольцем попер, так што я на него смотреть буду. С добровольцем разговор короткий: бултых, и готово.
Борода, вздрагивая, храпела. Рваный сапог из-под длинной шинели оскалил зубы. У Спирьки лицо потемнело. Засаленные брюки зябко вздрагивали. В карауле стало тихо. В глубоком тылу у белых загорелась на горизонте красная полоса, узкая и бледная, она разрасталась, делалась ярче.
Огненный шар выкатился из-за земли, разорвал на реке серую занавеску. Спирька чихнул, выполз из лощины. На другом берегу стояли во весь рост два офицера, махали белыми платками. Караул поднялся на ноги, протирая глаза и кашляя, уставился на белых. Мотовилов говорил Петину:
– Сейчас я их возьму на пушку.
Офицер громко крикнул через реку:
– Здорово, минцы!
– Здравствуй, здравствуй, погон атласный! – сипло ответила лоснящаяся кепка над смуглым треугольником помятого сном лица.
– Здравствуй, здравствуй, – передразнил Мотовилов. – Разве так по-военному отвечают? Не видите, что ли, что с вами подпоручик разговаривает?
Красные засмеялись, дружно рявкнули:
– Здравия желаем, господин поручик!
– Ну вот, это дело, видать, что минцы народ вежливый.
– Да уж минцы лицом в грязь не ударят. Го-го-го!
Мотовилов злорадно улыбнулся.
– Ну, конечно, Минский полк, 27-я дивизия, всегда против нас. Интересно, где 26-я? Сейчас попробую, не клюнет ли?
– Эй, друзья, а как товарищ Гончаров[4] себя чувствует?
– Так он не наш.
– Знаю, что не ваш, а 26-й, да, может быть, вы недавно видели его?
– Видели, как не видать; Вчера в Ключах встретились.
– Ага, штаб 26-й вчера был в Ключах, рядом, значит, и эта обретается. Отлично, – говорил вполголоса Мотовилов.
– Ну, а что товарища Грюнштейна[5] давно не слыхать?
– О, Грюнштейн теперь шишка большая!
– Хватит, ясно, как апельсин, 26-я и 27-я дивизии 5-й Армии. Можно донесение писать.
– Что, господа офицеры, сегодня не воюем? – спросили красные.
Петин тонким голосом крикнул:
– А что, разве вам охота подраться? Я сейчас прикажу открыть огонь.
Минцы замахали руками.
– Нет, нет, сегодня можно и отдохнуть.
Офицеры пошли к своим цепям. На берегу вышел из кустов белый караул. Враги стояли некоторое время молча. Широкоплечий унтер-офицер с черной бородой хлопнул рукой себя по боку.
– Спиридон, мерзавец, это ты?
Спирька сразу узнал отца.
– Я, тятя, я!
Красные и белые, с глазами, разгоревшимися от любопытства, смотрели на отца с сыном.
– Это, значит, на отца сынок руку поднял? А? Ты ведь доброволец, щенок?
– Доброволец, тятя!
– Я его дома оставил, думал, матери по хозяйству поможет, а он вон што, против отца пошел!
– Не я, тятя, супротив вас пошел, а вы супротив меня, супротив всего народу с офицерьем сбежали, в холуи к ним записались!
Отец вскипел:
– Ты поговори у меня еще, молокосос! Сию же минуту переходи сюда! Бросай винтовку!
Спирька засмеялся, потрепал себя рукой пониже живота:
– А вот этого не хошь, тятя? Хо-хо-хо!
– Го-го-го! Ловко, Спирька, отца угощаешь! – загоготали красные.
Чернобородый задыхался от гнева:
– Прокляну, Спиридон, опомнись!
– Нам на ваше проклятье начихать, тятя!
Отец высоко поднял руку:
– Не сын ты мне больше! Проклят ты, проклят во веки…
– А ведь не пальнешь в тятьку-то, Спирька, чать жалко.
Кровь бросилась в лицо Спиридону. Он вспомнил, как отец всегда с базара привозил ему пряники, вспомнил, как тот мальчишкой часто таскал его на руках, учил ездить на лошади, провожал с ребятами в ночное.
– Доброволец он, за буржуев, не отец он мне. Проклял он меня. Не отец так не отец.
Спиридон для чего-то старался заранее мысленно оправдать себя. Сын быстро щелкнул затвором, стал на колено и выстрелил. Пуля сшибла у отца фуражку. Отец трясущимися руками поднял свою винтовку, ответил сыну. Красные и белые молча наблюдали за борьбой. Чернобородый совсем растерялся, стрелял не целясь, винтовка плясала у него в руках.
– Сынок, – бормотал он, досылая патрон, – сынок, хорош сынок…
Спиридон с четвертой пули распорол отцу бок. Унтер-офицер вскрикнул, комком свернулся на земле. К раненому подбежали санитары.
– Будь проклят ты, отцеубийца. Отцеубийца проклят, проклят, хрфлфрихррр…
Кровь пенилась в горле и во рту Хлебникова. Спиридон с остервенением стрелял в санитаров, поднимавших отца на носилки. Красные отняли у него винтовку.
– Стой, дьявол, из-за тебя бой еще подымется.
Братание и разговоры шли по всей линии на участке N-ской дивизии. Белые, смеясь, кричали красным:
– Как, неприятели, переводчиков нам не нужно, и так сговоримся?
Красные гоготали, орали в ответ:
– Мать вашу не замать, отца вашего не трогать, сговоримся чать!
Толстяк Благодатнов стоял, засунув руки в карманы брюк.
– Земляки, какой губернии? – кричали в другом месте.
– Московской!
– А вы?
– Мы-то?
– Да!
– Мы Вятской!
– Так и знал, что либо Вятской, либо Пермской. Самые колчаковские губернии!
– Товарищи, айда к нам!
– Нашли дураков!
– Валите к нам!
– У вас хлеба нетука!
– Хватит! Сибирь заберем, хватит!
– Не подавитесь, товарищи!
– Ни черта, скоро на Ишим подштанники стирать вас погоним!
Молодой комиссар батальона пытался распропагандировать белых.
– Товарищи, за что вы воюете? – спрашивал он. Звук его голоса громко раскатывался по воде.
– Воюем, чтобы всех комиссаров переколотить!
– Что вам комиссары плохого сделали?
– Грабители!
– Кого они ограбили?
– Всех разорили! Житья от них нет! Война из-за них!
– Почитайте-ка вот наши книжки! – красноармеец, засучив штаны, полез в воду.
– А вы посмотрите наши!
Навстречу ему спустился с крутого берега худой татарин. Тобол в этом месте был очень мелок. Враги сошлись на несколько сажен, перекинулись свертками газет и брошюр. На реке стоял разноголосый раскатистый шум. Сотни людей кричали одновременно.
Полковник Мочалов разрешил N-цам разговаривать с красными, вполне полагаясь на них, как на добровольцев. Полковник питал некоторые надежды на разложение частей противника. Но, увидев, что толку из всего этого крика выходит мало, он приказал прекратить братание. Две батареи неожиданно рявкнули сзади, тучки шрапнели брызнули на красных свинцовым дождем.
– Что, буржуи, словом не берет, давай железом!
Красные быстро легли в окопы.
– Не пройдет номер, господа хорошие, мордочки вам набьем! Набьем белым гадам!
Белые солдаты неохотно открыли огонь из винтовок. Братание всколыхнуло у многих воспоминания о германском фронте, соблазн немедленного окончания войны был очень велик. Тобол гремел, стучал, свистел. Бой начался.
Несколько шрапнелей залетели в село. Хозяева квартиры Молова бросились прятаться в голбец[6]. Молов с Климовым пили чай.
Женщины заплакали, стали кричать.
– Господи, когда это кончится? Всех нас перебьют. Господи, господи, мужа в германску войну убили, теперь нас с ребятишками прикончат.
– Ничего, ничего, хозяюшка, сидите спокойно, сюда не достанет.
Люк в подполье не был закрыт, женщина кричала оттуда:
– Ох, товарищи, всем уж эта война надоела. Неужто вам все воевать охота?