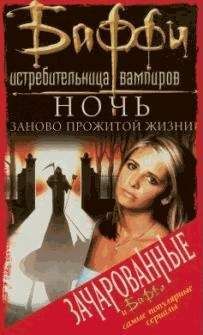Николай Атаров - Избранное
— Отец будет ждать? — спросила Оля, угадав, что Митя думает о нем. — Какой он?
Как она догадалась? Как ей по-особенному рассказать про отца, чтобы она захотела с ним встретиться?
Митина вера в отцовское всемогущество была беспредельна. Как-то удивительно вовремя умел Егор Петрович подтолкнуть Митину мысль, подсказать самостоятельное решение, не отпугивая крутизной взрослого опыта. И укорять никогда не позволял себе — только поскучнеет, если что не нравится. А это хуже плохой погоды. Встречались раз в месяц, а то и реже. Но каждый раз при встречах Митя вдруг понимал, что жил все время, как будто выполняя необъявленное задание отца.
Сегодня нехорошо рассказывать это Оле. И Митя выразился более уклончиво:
— Я очень хочу, чтобы ты сегодня пришла к нам. Поговоришь с ним — и тебе непременно станет легче. Он всегда налегке. У него дорожный мешок, он в него напихает белья, бумаг, табаку и отправляется в командировку. Все в мешке, даже Уголовный кодекс. Пойдем?
Она покачала головой.
— Тебе только кажется, что все очень просто. Отец меня пожалеет, Марья Сергеевна приласкает. Не хочу я, чтобы меня жалели. В школе тоже все очень жалеют. Просто не налюбуются на себя, как жалеют…
Ее голос срывался. Так вот что мучает Ольгу! Он сжал изо всей силы ее руку.
— Как не совестно, Оля! Зачем ты обижаешь людей, которые хотят тебе помочь? Ведь в том, что случилось, никто не виноват. А если в жизни с тобой произойдет что-нибудь страшное по вине людей, так уж белый свет сажей вымазать и в прорубь головой? Так жить нельзя, Оля!
Вдруг он почувствовал, что она дрожит. Дрожали плечи, локти; портфель, приподнятый, как для защиты, под подбородок, колыхался в ее руках; лицо с побелевшими скулами умоляюще смотрело вверх. Она не глядела на Митю. И он понял: так натянуты ее нервы, что каждое резкое, пусть даже необидное слово повергает ее в дрожь.
— Мне холодно… — сказала она.
— Надень вот это! — Он в секунду снял с себя куртку с застежкой «молния».
Но Оля помотала головой.
— Я больше не буду. Ты знаешь, я возьму себя в руки… Только не говори так.
Он торопился укутать ее. Оля подчинилась, надела куртку.
Пароход прошел близко, играла музыка. Теперь дорога уходила от реки, взбегала на те холмы, на которых лепились мазанки Дикого поселка. Возле палисадника, огороженного листами старого железа, Оля, задохнувшись, остановилась. Грозовая туча заволакивала синевой небо. Пароход поворачивал в сторону шлюзов. Мальчишка на неоседланной лошади прогнал табун с водопоя. Один жеребенок отстал, шел понуро по песку на взлобке холма. Тоненько заржал. Там, где садилось солнце, поднималась над табунком пыль.
И вдруг Оля, глядя на весь этот простор, улыбнулась. Митя с нежностью всмотрелся в нее. Нет, больше он не скажет ни одного резкого слова, ни в чем не будет ее убеждать.
Они подошли к дому.
Так же, по-вчерашнему, был открыт нянькин сарай. Только кровать стояла теперь в глубине, в полумраке, знакомая домотканая дорожка висела на стене над кроватью. Так же сквозь щели задней стены виднелись бочаги, над ними поднимался парок; там белая утка купалась, ныряла, показывая над водой кургузый зад.
Митя пробрался к высокой кровати и сел. Он ждал, что Оля зажжет лампу, но Оля забыла об этом; она постояла возле щели в стене, потом тоже присела на кровать. Все можно забыть, когда она так прикоснулась плечом к его плечу. Он осторожно обнял ее, поцеловал в плечо и засмеялся.
— Что тебе смешно? — прошептала Оля.
— Собственную куртку поцеловал.
— Не надо. Пожалуйста, не надо.
Во дворе мальчишки играли в биту. Муж Глаши, когда они проходили в сарай, проводил их взглядом; он возился с ящиками из-под оконного стекла, выгребал из них стружку, кидал ее в огонь костра, а подросток в фуражке с лаковым козырьком рубил ящики топором и складывал горкой щепу. Зачем они занимались этим уничтожением? Митя и Оля давно знали Глашиного мужа, но никогда не могли разгадать его профессию. Нянька говорила о нем загадочно, — видно, побаивалась его.
Глашин муж ничего им не сказал во дворе. Но Митя почувствовал, как он проводил их взглядом, как бы отметил зарубкой, куда они пошли.
— Нянька вчера несла какую-то несусветную чушь. Будто бы Глаша может тебя на лето в ларек устроить. Это правда? — спросил Митя. — Нет, это неправда?
— Я не знаю, что будет дальше.
— А я знаю. Ты будешь жить у нас. Ты будешь учиться, ты кончишь школу, все будет так, как надо! Мы сейчас же пойдем домой. Там отец. У тебя не может быть другого дома. И мама так же решила бы.
— Я не пойду. И ты не уходи. Погоди.
В темноте нельзя было ничего разобрать, только белело полотенце на спинке кровати. Митя прилег поперек кровати, и его голова коснулась домотканой дорожки. Он провел по ней рукой. В комнате Веры Николаевны она висела в углу за этажеркой с книгами. Хороша ее разноцветная пестрота: красные, черные, желтые, голубые, серые полоски.
— Это мамина дорожка? Не разберешь.
Оля поняла, о чем говорит Митя:
— Да, в темноте слилось. Не видно.
— Я не буду сейчас тебя уговаривать, только ты обижаешь меня, Оля.
Она молчала.
— И тетю обижаешь. Ни за что ни про что.
Когда он говорил так о тете, он не сомневался, что говорит правду. В его сознании утреннее приглашение тети заниматься у них само собой переработалось в приглашение Ольги жить в их семье.
— Не надо выдумывать, Митя. Тетя знает: со мной жить — не подарок, — сказала Оля. — Это с мамой можно мне было. Я сегодня ночью долго думала.
— Я тоже! Прости, что я вчера говорил глупости.
— Какие?
— О Леваневском.
— Но разве это глупо, что ты сказал?
Теперь пришел ее черед возражать ему. Из всех слов ободрения, услышанных ею, нужнее всего оказалось напоминание о Леваневском. Ну как, каким непонятным способом дало оно росток в ее душе! Когда она сегодня ночью лежала рядом с нянькой, боясь шелохнуться, вдруг вспомнились ей обледеневшая веранда, и Митин рассказ о Веточке Рословой, и обещание лета; все это детское, наивное смешалось с грозным представлением о летчиках, бредущих в полярной пустыне к жизни, к людям. И вдруг в полной тьме сарая, в полной тишине спящего двора Оля впервые подумала: «Ну и пусть трудно — все-таки жить!»
— Митя, помни о лете, — сказала Оля.
— Вот за это спасибо. Значит, ты не забыла?
— Что ты!.. Будем летом вместе. Я-то помню.
Было тихо. И только звук топора. Он тоже напоминал веранду на зимней даче. Так вот какие бывают перемены в жизни!
В дверях послышалось нянькино кряхтящее дыхание. Она шла на покой, не догадываясь, что здесь, в сарае, в темноте, идет важный, самый важный для Оли, какой только может быть в жизни, разговор.
— Ну, теперь иди, — шепнула Оля.
ВЗРОСЛЫМ ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬПоскучнел районный прокурор. То, что Митька переутомился, ночью плохо спал, очень понятно. Да, все кончилось печально, и одной сиротой стало больше на свете. Выпроводив Митю в школу, Егор Петрович присел к столу завтракать. Только и сказал, что «мы в свое время раньше становились взрослыми», на что Марья Сергеевна, помолчав, спросила: «И теперь позже стареем?» И, как эти два неторопливых вывода, все, что они в течение дня думали об Олином горе, о Митином будущем, соединялось с мыслями о собственной юности. Егор Петрович пошел в областной суд, Марья Сергеевна, как обычно, — в школу. А сошлись вечером — Мити нет дома, — и снова шел разговор о том, не взять ли девочку в семью. Каждый про себя вспоминал покойницу Катю — Митину маму. И чаще обычного Марья Сергеевна совала окурки в блюдечко с водой, с давних пор заведенное на письменном столе.
Марья Сергеевна смолоду была нехороша собой. Не настолько, чтобы личная жизнь была заказана, но как раз настолько, чтобы не нравиться себе и со всей непримиримостью юношеских требований к жизни отказаться от попыток искать свое женское счастье. Много читавшая, любившая книги, всем жаром души ненавидела она в юности княжну Марью Болконскую. «Эта нищенка, — писала она в дневнике, — готова принять любое подаяние. О, не меньше, чем Николая Ростова, она обожала бы и наглого Анатоля Курагина, если бы тот согласился взять ее в жены! Впрочем, один от другого не так далеко ушел, как казалось Толстому». Самой же ей при этом казалось, что она похожа лицом и неуклюжестью на княжну Марью, и ее ужасало предположение, что когда-нибудь по-нищенски примет подаяние — станет чьей-то женой.
Рядом с Машей в семье земского врача росла младшая сестра, Катя. Она была из тех женщин, которых называют очаровательными. Миловидная, не замечавшая своей миловидности, одаренная жадным интересом к людям, уверенная, что рано или поздно все в жизни устроится без ненужных усилий, она нравилась одинаково и мужчинам, и женщинам, и детям. Гибкость Кати, ее умение увлечься чужими интересами люди принимали за глубину, такт — за доброту, самоуверенность — за бесстрашие. Маша все хорошо понимала. Зато, когда Катя вышла за Егора Петровича, Егорушку, скромного, мужиковатого по внешности, только что окончившего юридический факультет и работавшего судьей в соседнем селе, все посчитали это легкомыслием, и только одна Маша оценила безошибочный выбор сестры. Много ночей проплакала втихомолку: ведь это был ее собственный, Машин выбор. Катя весело отняла у нее неуклюжего знакомого, понравившегося Маше с первого же дня — и, пожалуй, недостатками больше, чем достоинствами.