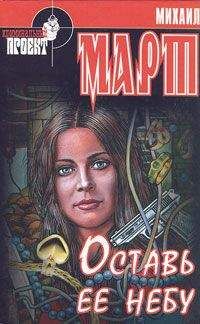Станислав Мелешин - Расстрелянный ветер
Это было давно, год назад.
Сейчас она осторожно отодвинула свечу и поставила на ящик из-под леденцов чашку с мясом.
Кривобоков хватал руками разваренную баранину.
— Мишенька! Задам я тебе один вопрос…
Кривобоков насторожился.
Она подошла к нему сзади, обхватила его голову теплыми руками и прильнула к небритой щеке.
— Ты меня еще любишь?
Кривобоков поперхнулся, и когда она села к нему на колени, он почувствовал горячую тяжесть ее тела, сказал:
— Уйди от меня!
— Куда же я уйду?!
Он потрогал ее за холодную коленку и услышал над головой дыхание.
— Мишенька! Когда ты рядом со мной…
— Заткни глотку!
Кривобоков ссадил ее и ударом ноги открыл дверь землянки.
За дверью осталась жизнь и женская обида, а навстречу ему в усталые глаза хлынуло лучами полдневное солнце. Послышалось пение:
Ой, бог! Не дай бог
Мишку Дудкина любить!
Нагибаться, целоваться —
Поясница заболить!
Он обвел горланящих, веселящихся бандитов подозрительным взглядом и, когда они примолкли, улыбнулся, махнул рукой: мол, продолжайте.
У другого костра раздавался хохот. Кривобоков подошел, прислушался.
Полуголый жилистый старик по прозвищу «Николай-угодник», выставив пузо к огню, потешал компанию, сам тоже похохатывая:
— Чистая ведьма была наша-то степная помещица. Я пастушил у нее. Стада на всю степь, а табуны коней как проскачут — гром кругом, земля качается, вот-вот расколется. Помещица-то была — во! Гренадер! Грешила срамно. Почитай, на кажнюю ночь мужика выбирала, чтоб ей, значит, баю-бай пропел. Организма требует! Ослушаешься — запорет!
Бабы от злости-ревности косы у себя рвут, а ничего, брат, не поделаешь.
Чудеса утром рассказывали, кто баюкал-то, всю ночь стон стоит в усадьбе. Под утро, кто возвращается, — еле дышит. Убаюкалась, значит. Плотоядная, стерва, была! Ну, и меня не миновала. Умаял я ее! Вот те крест! Как обниму — она в оморок сразки. Неделю не отпускала. Вина — залейся. Махану — бишбармаку — горы. Ну, а вскоре посватал ее какой-то, тоже гренадер, ей под стать. А ведь и ничего! Все равно утречками иногда в мой шалашик наезжала. И мы не лыком шиты! А однажды…
Михайла не дослушал, отошел в сторону. Ему ясно представилась белолицая, дебелая помещица с усиками над властно сжатыми обкусанными губами, которой принадлежали и степь, и рабы, и скотина. Вот она скачет на жеребце, осматривая свои стада… Все у нее есть: власть, воля, довольство.
Он мысленно позавидовал ей, а потом, усмехнувшись, сплюнул. Было когда-то!
Ему захотелось зарыться головой в холодную траву, уснуть и ничего не помнить.
Он пошел точить саблю.
Ему вспомнились молитвы, над которыми он насмехался, но, оставаясь наедине с собой, приходил к мысли: а почему же не помолиться: «Егда предаещися сну, глаголи: «В руки твои, господи Иисусе Христе, боже мой, предаю дух мой. Ты же меня благослови, ты меня помилуй и живот вечный даруй мне. Аминь».
Он вытянул саблю из ножен и, сидя на холодном камне, вдруг вспомнил пустой зрачок дула, направленного в его тело, прямо в сердце.
Вспомнил и поежился, зашептал еще одну молитву:
— Буди меня покров и забрало в день испытания всех человек, все они огнем искупаются, дела благие же от зла.
Сидел и вспоминал. Дни и версты прошли через всю его жизнь, сабля пела, он точил, правил как косу, поплевывал на цветы, и мысль о том, что так, за здорово живешь, можно взять и убить человека, засела в его мозгу.
Вот как это было.
В приятное время роздыха, когда не нужно вскакивать на коня и искать на боку маузер, а за плечом винтовку, пошел он с госпожой Султанбековой к озеру.
И он и она были пьяны.
Голая женщина словно все забыла, входя в воду. Она, пошевеливая пальцами ног, пробовала песочек на дне.
Неожиданно сказала:
— Мишенька! Забудь и ты все на свете!
Забыть все на свете он не мог, искоса стал любоваться ее могучим телом и думал о Евдокии, своей жене, думал о том, что Султанбекова, как ни хитри, его вторая жена, и, прищурив глаза, слушал ее дальше.
— Дай-ка мне, Мишенька, твой маузер, пострелять…
Он усмехнулся, подошел к воде, подал ей оружие в большую мокрую ладонь и услышал:
— А ты не боишься?! Я могу сейчас убить тебя.
Кривобоков сжал зубы потом исподлобья взглянул в ее дикие черные глаза и ответил:
— Меня уже много раз убивали.
— Постой! Слушай… Я забыла, что люди стреляют друг в друга. Но я не забыла…
Голая женщина выходила из воды, направляясь к своей одежде, и кричала:
— Зачем ты убил всю мою родню?!
Султанбекова пальцами огладила тяжелый металлический квадратный предмет, взвела курок.
Он смотрел на ее руку, держащую оружие, и спокойно ждал, когда Султанбекова направит дуло на него.
И она направила дуло ему в грудь.
— Вот и не будет тебя. Сейчас выстрелю — и ты умрешь!
Кривобоков смахнул с лица пот и приказал:
— Отдай мне эту холеру! Если ты меня… выстрел услышат! Тебя изловят и… ты знаешь, что с тобою сделают. А потом вздернут на первой березе!
Она стреляла поверх озера, в берег, в воду и, голая, неистовствовала.
— Дура я, баба! Тоска пьяная долит!
Он принял маузер, взглянул на нее и отрешенно дополнил:
— Сука ты.
Он это помнил.
Он вспоминал об этом всякий раз, когда на его душу ложились тяжестью и горе и беды, вспоминал и забывал тут же.
Но страха от пустого зрачка маузера, направленного ему в грудь, забыть не мог.
Вернувшись в землянку, он долго и пытливо глядел на Султанбекову.
Она расправила на своих бедрах и животе фартучек и сказала:
— Я знаю, что ты от меня уйдешь.
Кривобоков поднял вверх свой помутненный взор, о чем-то подумал и выхрипнул:
— Ну и что же?!
Султанбекова прищурила глаза.
— Мишенька! Есть в отряде… молоденький такой. Его кличка «Барашек». Волосы у него курчавые, беленькие…
— А-а-а! Это тот самый, который при налете на геологов чуть не стащил у них с тачанки пулемет?! Ну и что же?!
— Он с обожанием смотрит на меня. И весь дрожит.
Кривобоков хмыкнул и вдруг вспомнил о том, что сам лично, при налете на геологов, рубанул шашкой какого-то сжавшегося старичка в передке. У старичка были странные чистые голубые глаза, они посмотрели пристально, а потом потемнели и одна здоровая рука обхватила другую — подрубленную.
Кривобоков приказал:
— Убей его. Отведи в лес… и… будто он сбежал. Как ты думаешь, он хочет тебя изнасиловать? Да?
Султанбекова помедлила с ответом, ей было радостно, что Мишенька ревнует, и она доверительно ответила:
— После встречи с тобой… убью его!
Кривобоков уже седлал коня, приторачивал чего-то, нагромождал, торопился. Сказал устало:
— Вот что… Я скоро вернусь.
Ударил коня плеткой, и тот снова сноровисто понес его в глубь леса.
…Султанбекова возвращалась из леса мрачная и злая.
Только что через ее душу прошли соседями жизнь к смерть. В ушах все еще слышался плачущий, удивленный голос Барашка: «Вы меня… убили? Да? Я уже мертвый… да?!»
А до этого они шли в пахучую глубину леса, шли взволнованные оба ожиданием уединения, шли далеко, будто на край света.
Барашек, молоденький и красивый, перепоясанный ремнями, увешанный саблей, гранатами, револьвером и биноклем, прерывисто дышал, оглаживал ладонью свои девичьи румяные щеки и, встречаясь с раскаленными черно-угольными глазами Султанбековой, смущенно отводил в сторону голубые кругляшки глаз.
Еще на базе она почувствовала, что кто-то опять пристально разглядывает ее. Она знала — кто. Подошла, глаза в глаза, снисходительно спросила:
— Что смотришь? Хороша?!
Барашек растерялся:
— Л-любуюсь.
— Стрелять умеешь?
Заторопился, отвечая:
— Это я могу лучше всех в отряде. Еще в Троицкой гимназии по стрельбе брал первые призы.
— Ну, ну. Пойдешь со мной.
На пушистой, насквозь прошитой солнечными лучами, поляне, остановились. Прошли в березы, в густые зеленые травы.
Прохладно и темно.
«Ох, и отомщу же я тебе, Мишенька!» — усмехнулась Султанбекова и, закрыв глаза, раскинула руки:
— Ну, иди…
Барашек упал на ее грудь и услышал горячий шепот-приказ:
— Целуй меня.
Он долго не мог оторвать свое пылающее лицо от ее жадных властных губ и весь трясся. Мешали оружие и одежда.
Она вспомнила сплетни о Екатерине II, о ее дворцовых интимных приключениях, и ей льстило то, что и она может сейчас позволить себе быть Екатериной II. Опять приказала:
— Раздень меня! Жарко… Не торопись.
Он неумело раздевал, отбрасывал в траву ее оружие и одежды, стыдился, краснел, когда она открывала глаза, а когда закрывала, бледнел, и совсем осмелел, услышав растерянное: