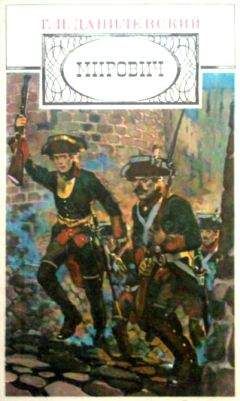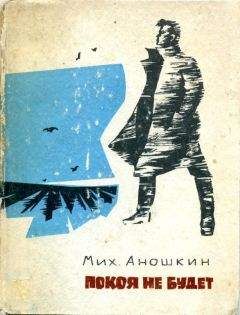Михаил Аношкин - Кыштымские были
— Катись-ка ты, Тимошка, на все четыре стороны, господин инженер расчет тебе дает!
Мигом выгнали с завода Тимошку. Он, ясное дело, разозлился, вокруг него сочувствующих целая толпа. Тимошка и распалился от их сочувствия, возьми да скажи:
— Убить мало, гада ползучего! Ужо подвернется он мне под руку — не промахнусь!
Жил Эмрич рядышком с заводом, со стороны Коноплянки. Один ходить боялся, возле него всегда верные людишки вьются! Кыштымские мужички, когда рассвирепеют, опасными делаются. А свирепеть было от чего — дуги из них гнул Эмрич, без сроку и отдыху. Додумался он к дому своему от заводской стены подземный ход выкопать. Нырнет в этот ход и, глядишь, уже дома. И на улицу выходить не надо. Утром снова нырнет — и на заводе, прямо из-под земли. Ему же холуи доносили: мол, зубами скрипят мужички, они ведь на вольной опаре заквашены. Ни черта, ни дьявола не боятся.
Однако ж не уберегся Эмрич. Как-то вернулся домой, свет запалил. По всему Кыштыму лампы керосиновые, а у него электричество. Завод-то без электричества не мог, по тем временам эта штука редкостью была большой. В избе-то от электричества совсем светло. Мы тогда на Нижнем жили, так бегали по вечерам к дому Эмрича. Ведь диковинка какая — висит пузырек и светится. Ни дыма тебе, ни копоти. Да, так вот явился домой Эмрич поужинать, вот лег на диван, книжка в руках. Кухарка на суднице посуду моет. Лежит себе на диване, книжечку заморскую почитывает и того не ведает, что пробил его смертный час. Подкрался кыштымский охотник к дому тому, зарядил свою бердану пулей-жаканом, с которой только на медведя и ходят, и хлобыстнул по Эмричу. Окно вдребезги. Охотники у нас меткие, не промахнутся. Та пуля-жакан попала в грудь, Эмрич и охнуть не успел. Кухарка визг подняла. Пока она там визжала, а охотничек в темноте растворился. И навсегда. Никто и до сего дня не знает, кто же укокошил американца.
Жандармы тогда с ног сбились — искали. Весь Кыштым перевернули, а все попусту. Иголку в сене и ту проще было найти. Никаких следов не оставил охотничек. А кто знал — помалкивал.
Ищут-рыщут жандармы, в поту бьются, рады уж на все плюнуть, замять дело, да нельзя. В Питере про убийство знали, в Америку, ясное дело, передали родичам. Те кулаками потрясают — найти убийцу, что за варвары, мол, живут в этом богом забытом Кыштыме. Из Питера, само собой, окрик — искать! Самый главный жандарм приказал. Наши, конечно, ищут, а все попусту. Всяких там подлипал-слухачей подсылали к рабочим, подслащивали, уговаривали, золотые горы сулили. А кыштымцы одно себе твердят — слыхом не слыхивали, видом не видывали. Может, какой бродяга ухлопал, варнак лесной, мало ли их по тайге шатается?
Да-а, а тут один холуй возьми да вспомни, как мой брательник Тимошка похвалялся убить Эмрича. Тот холуй бегом к жандарму: так, мол, и так, Тимошка Сырейщиков убивец, не иначе. Сам себя бил в грудь, грозился кончить господина инженера. Много же народу слышало, как он бахвалился.
Кыштымский жандарм сразу смекнул, что к чему, обрадовался, руки потирает. Еще бы не обрадоваться! Из Питера-то ему пригрозили — коль не найдешь убийцу, прощайся с теплым местечком — должностью своей. А что теплое местечко — факт: у власти и кормежка хорошая. Живи себе всласть и прижимай рабочий люд. А коль погонят — где он еще такую жирную жизнь найдет?
Осень тогда уж наступила, вечера длинные сделались. Наша семья чаевничала. На столе ведерный самовар, батя у меня страсть как любил чайку попить. Сидим, значит, чаевничаем, ни о чем серьезном и не думаем, а беда уже в ворота стучится. Полкан залаял, хрипел прямо от ярости — чужие идут. Матушка и говорит:
— Кого по ночам нелегкая носит?
А батя отвечает:
— Ванюшка Мелентьев, наверно. Намедни сулился зайти.
— Да нет, тять, — возражает Тимошка. — Полкан на него не лает.
Тут дверь распахивается — и на тебе незваных гостей — жандармы. Трое. На боку сабли, фуражки с красным околышем, да все усатые. Среди них и соседушка наш — Леонтий Галыгин. Тоже в жандармах служил. Мы его дом-то стороной обходили, не то чтобы боялись, просто глядеть на него не хотели. Когда в седьмом-то году аресты начались, этот Леонтий больше других выслуживаться старался. Этот Галыгин вперед выходит и говорит:
— Собирайся, Тимошка. С нами пойдешь. Да живо!
— Куда вы его? — это батя встрял.
— Не твоего ума дело, — это Галыгин отбрехнулся. Как же не его дело? Сына уводят жандармы, а отцу и спросить нельзя. Матушка заголосила, Галыгин и на нее рыкнул. Вот бог послал нам соседушку.
— А что я такое сделал? — Это Тимошка прошептал, у него и губы одеревенели от страха. Одеревенеют, шуточное ли дело — жандармы за ним пришли.
— Не прикидывайся овечкой! — Это опять Галыгин прикрикнул. — Знаешь что!
Увели Тимошку, к чаю больше никто и не прикоснулся. Назавтра по Нижнему всякие слухи поползли, а главный слух такой, — мол, убил Эмрича Тимошка, сын Ивана Сырейщикова, кто мог подумать! Тихий парень и такое выкинул! Это он, наверное, за то, что Эмрич прогнал его с завода.
Батя аж поседел за одну ночь, матушку какой-то травой еле отпоили. Не убивал же Тимошка американца, просто не мог. Да еще в те дни мы на покосе жили. Тимошка тоже траву косил.
На допросе Тимошка и заявил:
— Не убивал я… На покосе мы жили.
К слову сказать, от покоса до нашего дома пятнадцать верст, своими ногами измеряно. А жандарм Леонтий Галыгин кулаком по столу — ты убивец. Тимошка на своем стоит. Леонтий ему в ухо. Тимошка от боли морщится и молчит. Добрались до бати, Галыгин ему и говорит:
— Не крутись, Иваныч, скажи Тимошке, чтоб подобру признался. Иначе душу вытрясем.
— Да невинный он, Леонтий Лукич, на покосе мы жили, когда Эмрича-то пристрелили. Спроси хоть Егора Глазкова, хоть у Сергуньки Дайбова. По вечерам вместе у костра сходились.
Да ведь и улик против Тимошки у жандармов не было. Мало ли что сболтнул сгоряча. Слова есть слова. А доказательства какие? То-то и оно. Вот Леонтий и его дружки-жандармы затылок скребут — как быть? Тимошку-то, похоже, отпускать придется. Снова искать надо убийцу-то, а где его найдешь? Из Питера требуют — наказать того, кто стрелял. Тогда Леонтий и пошел на пакость. Соседей-то наших всех знал, кое с кем дружбу водил. Подговорил своих дружков-соседей: мол, покажите против Тимошки. Один иуда показал, будто видел, как Тимошка крался огородом с ружьем. А другой — будто видел его, тоже с ружьем, у дома Эмрича. За какие капиталы купил их Леонтий, не ведаю, но показания они дали. Всякие мерзавцы были. А Тимошке петля. Отпирался он до последнего. Тогда Леонтий Галыгин и говорит:
— Послушай, Тимофей, я бы на твоем месте сознался. Живым-то мы тебя отсюда все одно не выпустим. Прибьем, и точка. А потом скажем — в бега собрался, потому мы его и прикончили. Но ежели сознаешься, жив останешься. Ну дадут тебе десять лет каторги, ты еще молодой — выдюжишь. Домой вернешься. Так что мой тебе совет — сознавайся.
Призадумался Тимошка, посоветоваться не с кем — никого из родичей к нему не пускали. В голове туман — каждый же день били. Замордуют до смерти, это как пить дать. У Леонтия хватка волчья, и сам он волк в человеческой шкуре. Его в восемнадцатом к стенке поставили, а по моему разумению, его надо было собакам на клочья растерзать.
Словом, куда ни кинь, всюду клин. Тогда Тимошка и говорит Галыгину:
— Ладно, согласный я, так и быть сознаюсь. Только вам на том свете это припомнится!
На радостях ему Галыгин еще раз по уху заехал. Мигом разные бумаги сварганили — и в Екатеринбург. Там бумаги поглядели и велят везти туда Тимошку, судить там, стало быть, будут. Бате с матушкой перед отправкой свиданье дали, тут Галыгин маху, конечно, дал. Потому что Тимошка все им начисто обсказал, почему вынужден был сознаться. И про соседей, которые напраслину на него наговорили.
Батя-то у меня решительный был, пошел к своим друзьям-рабочим посоветоваться. Тогда Нижний-то завод и забурлил. Но Тимошку уже увезли, хотели в укромном местечке Галыгину голову проломить, но он почуял, что дело неладно, и один нигде не появлялся.
Собрался батя ехать на суд в Екатеринбург. С ним вместе увязались Егор Глазков да Сергуня Дайбов, соседи наши по покосу — они же видели Тимошку на покосе, вместе у костра ночи коротали. Всем гамузом и поехали, матушка тоже не усидела дома.
Приехали в Екатеринбург, в суд их пустили, публике не возбранялось присутствовать. А тут дело такое громкое — убийцу Эмрича будут судить. Народу, само собой, набилось видимо-невидимо, даже в проходах стояли. Вот вводят Тимошку два солдата с винтовками. Острижен наголо, под глазами синяки, похудел шибко. Матушка от слез удержаться не может.
И начался суд. Судья и спрашивает:
— Тимофей сын Иванов Сырейщиков, признаешь ли ты себя виновным?
Тимошка встал, взгляд в пол вперил и отвечает: