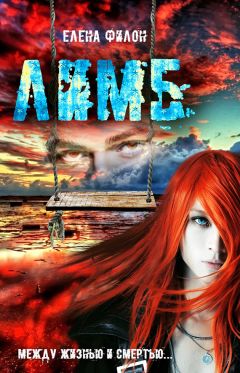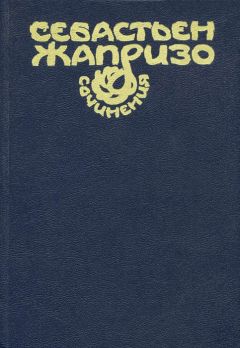Нотэ Лурье - История одной любви
Из просторного коридора донеслось проворное топанье детских ножек, и в столовую, где мы сидели, вбежала красивая девочка, копия Ехевед, и за ней худенький большеглазый мальчик в коротких голубых штанишках на белых лямках. Девочка, это была Суламифь, поздоровалась со мной, поцеловала отца, сказала, что во дворе они уже наигрались, и ушла в детскую. Мальчик, коротко остриженный, очень живой, громко чмокнул отца в щеку. Геннадий Львович обнял его, потрепал влажный темный чубчик и поцеловал его в лоб.
— Суламифь уже совсем невеста, — заметил я. — Вся в мать. А кто этот малыш?
— Малыш? — переспросил Геннадий Львовнч, не глядя на меня, и снова его лицо приняло отрешенно-вежливое выражение. — Это наш сынок. Да, наш, — добавил он, как бы назло кому-то, и еще раз поцеловал его, словно искупая какую-то вину перед ребенком. — Шолом, подойди и поздоровайся с Соломоном Елизаровичем, — очень спокойно обратился он к сыну.
— Вот как! — радостно воскликнул я. — От всего сердца поздравляю с таким прелестным сыном и желаю вам, чтобы он рос, радуя всех своим умом, добротой, способностями… Иди же ко мне, малыш!
Я очень люблю детей, они каким-то образом это сразу чувствуют.
Шолом, улыбаясь, подошел. Я поднял его, посадил на колени и погладил по головке.
— Какой милый ребенок, и глазенки живые, умные. Очень похож на вас, — сказал я, желая доставить Геннадию Львовичу удовольствие.
— На меня? — с нажимом произнес Геннадий Львович, насупившись. — Вы ошибаетесь. — И, видимо желая прекратить этот неприятный для него разговор, спросил, остались ли у меня в Чите наследники.
Не понимая, зачем он это спрашивает, я ответил, что моя покойная жена еще до нашей свадьбы переболела и не могла иметь детей. А мне уже тридцать восьмой год. Остался один-одинешенек, без жены, без детей.
Покачивая Шолома на коленях, я спросил, сколько ему лет.
— Сколько лет? — лицо Геннадия Львовича снова омрачилось. — Сейчас вам скажу… Сколько прошло с тех пор, как вы выступали здесь с концертами и были у нас и гостях? — сухо спросил он. — Это было в июне тридцать девятого?! Шесть лет тому назад. В апреле этого года Шолому исполнилось пять…
С плохо скрываемой досадой он подозвал к себе ребенка, снова поцеловал и отправил к Суламифь в детскую.
Я почувствовал себя так, будто нанес Геннадию Львовичу незаслуженную обиду, хотя совершенно ни в чем не был виноват. Все же, сам того не желая, я отравлял ему жизнь. Не знал, что сказать, как себя вести. Холодный пот выступил на лбу. Но не стал его вытирать, чтобы Геннадий Львович не заметил и не сделал вывод: я и в самом деле в чем-то виноват. Ощущение у меня было такое, будто сижу на скамье подсудимых и не могу найти ни единого слова в свое оправдание.
В эту минуту я услышал знакомые шаги в коридоре, и вошла немного усталая Ехевед, внеся с собой нежный запах хризантем. Увидев меня, на мгновение застылл в изумлении, потом радостно воскликнула:
— Соля?! Каким образом? Ах, какой сюрприз! Какой гость!
Я поднялся ей навстречу, и она крепко пожала мне руку.
— Ты получил письмо, которое мы с Геннадием Львовичем написали? Когда же ты приехал? Где остановился? — как обычно, засыпала она меня вопросами. — Сколько лет мы не виделись? Пять лет. Нет, Шолому ведь уже больше пяти. Шесть. Да, шесть лет прошло. И какие трудные, страшные были годы… Соля, ты видел нашего сына? Что скажешь? Он ведь уже играет на скрипке. А Суламифь видел?.. А как ты? Как твоя жена?..
Своим приходом она меня просто спасла. Я с облегчением вздохнул.
— Ты уже давно у нас? Как жаль, что пришлось задержаться на кафедре, — продолжала Ехевед. — Ты, наверное, голоден? Геннадий, а ты будешь обедать дома или уже поел?
Геннадий Львович ответил, что он сыт. Я вежливо, но категорически отказался, пояснив, что в гостинице меня, должно быть, уже ждут.
За шесть лет, что мы не виделись, в золотистых волосах Ехевед появилась белая прядь. Но и седина ее красила, придавая очарование ее лицу. В моих глазах Ехевед была так же прекрасна, как и прежде. Вообще мне казалось, что она всегда, всегда будет красивой и молодой.
— Ты что, уже уходишь?! — огорченно спросила она. — Геннадий, воздействуй как генерал на рядового. Мы ведь еще ни о чем не успели поговорить. Завтра, Соля, ты придешь?
— Возможно. Если только не уеду, — ответил я.
— Задержись еще хотя бы на несколько дней. Можешь пожить у нас. В твоем распоряжении будет отдельная комната и все удобства. Геннадий, скажи ему. Всем вместе надо отпраздновать нашу победу. И поговорить о многом. Каждый из нас столько за это время пережил.
— Зайду, если выкрою время, — пообещал я, хотя был твердо убежден, что нахожусь в этом доме в последний раз.
Я поднялся, собираясь прощаться.
— Подожди одну минутку, я только причешусь и провожу тебя, — сказала Ехевед.
Мне не хотелось, чтобы она шла без Геннадия Львовича, и я предложил ему тоже пройтись с нами.
— Хорошо, — спокойно и вежливо ответил он. — Вы подождите меня в садике нашего двора. Я переоденусь и выйду.
— Геннадий, дорогой, не заставляй нас долго ждать, — попросила Ехевед.
Сразу же, как только мы вышли, я рассказал, как Геннадий Львович ответил на мой вопрос, сколько лег Шолому, и как реагировал на мое замечание, что мальчик похож на него.
— Я оказался в ужасном положении. Его слова меня просто ошеломили, — говорил я волнуясь. — Ну неужели он подозревает… Но ты ведь хорошо знаешь… Ты знаешь правду, что я ни в чем не виноват?
— Нет, ты виноват. Только ты, Соля, виноват, — усмехнулась она. — Да, да. Я ведь писала, что у нас новости. Вот это и есть та новость. В нашей семье появился ребенок. После твоего отъезда, Соля, со мной творилось такое, что невозможно передать. Теперь это уже прошло, но тогда я была сама не своя, старалась успокоиться и не могла, ничего не помогало. И тогда я поняла: спасти меня может только рождение ребенка. Так что напрасно не переживай, успокойся, Геннадий прекрасно знает, что Шолом его сын. Ты просто его неправильно понял.
Подошел Геннадий Львович. Он был в светлом костюме, прекрасно сидевшем на его высокой, статной фигуре.
Увидев мужа, Ехевед рассмеялась.
— Что случилось? Что такое? — словно взвешивая каждое слово, спросил Геннадий Львович.
— Я тебе потом… потом расскажу, — запрокинув голову, еще громче расхохоталась она. — Ну… идем.
— Куда? — спросил Геннадий Львович и обратился ко мне — В какой гостинице вы остановились?
Чувствовалось, что в ее присутствии он старается быть ко мне более внимательным.
Я сказал, что и на этот раз остановился в «Астории»,
— Ты один? В каком номере? — спросила Ехевед.
— Один. В восемнадцатом.
— Неужели? Рядом с шестнадцатым номером, который ты занимал в свой прошлый приезд?
— Ехевед, ты знаешь, — перебил я, — мне ведь снова довелось побывать в краях, где находилось ваше местечко.
— Что ты говоришь, Соля?! Когда? — воскликнула она.
Я подробно рассказал, каким образом я там оказался, про то, что там застал и что среди множества закопченных труб уцелели только стены бывшего клуба и наше крылечко.
— Оно уцелело?.. — спросила пораженная Ехевед. — Ты сам, своими глазами видел наше крылечко? И, обернувшись к мужу, умоляюще сказала: — Геннадий, я тоже должна там побывать. Соля, давай поедем вместе. Одной страшно…
— У тебя там кто-либо оставался? Что с твоими родителями? — спросил я осторожно.
— Ой, это ужасно… Еще в начале войны… — Она смахнула слезу платком и не могла продолжать.
Некоторое время мы шли молча.
— Ты не устала? — встревоженно спросил Геннадий Львович.
— Нет, — покачала она головой и, справившись с волнением, рассказала, что отец и мать за несколько дней до войны поехали в Харьков к старшей сестре. В местечко они уже не вернулись. Вскоре из Харькова их эвакуировали. В пути отец заболел. Им пришлось задержаться в Мариуполе. Через несколько дней гитлеровцы захватили город, и все там погибли.
— Была семья Певзнер, и не стало… Было местечко, и нет его, сожгли, уничтожили. И никогда, никогда уже такого местечка не будет… Как это страшно…
Мы подходили к гостинице. Она стала задумчива, рассеянна. Вероятно, нахлынули воспоминания. Не хотелось ей расставаться. Смотрела на меня с тихой грустью, как на давнего близкого друга, напомнившего ей о прошедших днях юности, которые никогда уже не вернутся.
— Приходи обязательно к нам завтра обедать, — сказала она, прощаясь, — и вообще не забывай нас, когда будешь в Ленинграде, непременно заходи.
Геннадий Львович тоже, правда более сдержанно, просил навещать их.
Я вошел в гостиницу и через стеклянную дверь вестибюля с тоской смотрел вслед Ехевед и Геннадию Львовичу, которые медленно возвращались домой, о чем-то разговаривая. Он, безусловно, доверяет жене. Но все же мимолетные подозрения, возможно, пробуждались в его душе и доставляли немало горечи. Мне стало больно за него. И я почувствовал свою невольную вину.