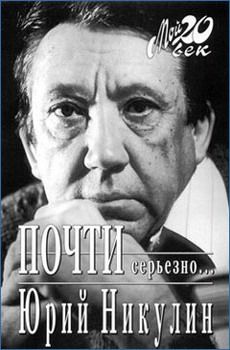Юрий Нагибин - Время жить
Так было и с Кальманом, под «легкомысленной звездой» которого я провел длительное время, упиваясь неувядаемым очарованием его прелестных мелодий, встречаясь с людьми, живо помнящими самого маэстро — он умер сравнительно недавно, в 1953-м. В результате возникла повесть и фильм. Вдова Кальмана после просмотра фильма — а мы все очень страшились этого момента — сказала: «Боже мой, вы даже не попытались сделать героев похожими на нас. Ничего общего. Но знаете, не пойму, в чем дело, мне сейчас кажется, что мы были именно такими». Трудно переоценимая похвала. Фильм во многом отличается от повести. Венгерские коллеги заранее нацелились на создание яркого развлекательного действа — это получилось. Но «за кадром» остались многие горестные коллизии жизни и творчества композитора, которого Шостакович, наряду с Оффенбахом, называл «гением оперетты».
Недавно я закончил сценарий по уже опубликованной повести «Сильнее всех иных велений». Он посвящен одному из оригинальнейших деятелей русской музыкальной культуры — хоровому дирижеру и композитору, страстному пропагандисту русской музыки в странах Старого и Нового Света, добровольцу обороны Севастополя и беглому ссыльному князю Юрию Голицыну, представителю древнейшей и знатнейшей фамилии на Руси. Личность его необычайно интересна, как и судьба, отмеченная крутыми перепадами взлетов и падений. Не менее интересна и очень красива музыка, с которой я теперь встретился — самого Голицына и его учителя Ломакина, Бортнянского, Дегтярева, Титова… Идет напряженная и очень увлекательная работа. Она для меня — синоним самой жизни, где неизменно рядом мои вечные спутники — Литература, Музыка, Живопись.
Музей — это любовь на всю жизнь!
…Что касается литературной работы, писательской жизни, писательского бытия вообще, то роль музеев для большинства, если не для каждого, огромна. Что же касается конкретно меня, писателя Нагибина, то музей сыграл первенствующую роль не только в моем творчестве, но и в моем человеческом формировании, в жизни вообще. Он дал мне значительно больше, чем библиотека, хотя читал я, естественно, много, больше, чем театр, концертный зал, архив. Я очень рано полюбил музей. Причем полюбил его как осязаемый, одушевленный организм. Это было связано с довольно рано проснувшейся любовью к живописи.
Первыми музеями в моей жизни стали Третьяковская галерея и Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (в ту далекую пору он еще назывался Музеем изящных искусств). Мне доставляло большое удовольствие рассматривать открытки с репродукциями картин. Я был поражен, когда узнал, что настоящие полотна, настоящие скульптуры можно увидеть в той же Москве. И, как говорится, заболел этим делом. В восемь лет началось мое увлечение музеями, вскоре перешедшее в настоящую страсть.
Третьяковка и Музей изящных искусств стали на долгие годы «моими университетами». Я, конечно, еще не знал знаменитых горьковских слов, но они целиком относились ко мне. Я бывал там не реже, чем два-три раза в неделю. Как и все мальчишки и девчонки, я имел от родителей микроскопические «отчисления» на завтраки, газированную воду и мороженое, на трамвай, иногда на кино, но все это уходило на музеи да еще на покупку книг по искусству. Однажды наша знакомая принесла к нам в дом тома «Истории живописи всех времен и народов» Александра Бенуа. И я был сражен. Дело в том, что к тому времени я знал неплохо по репродукциям всю западную живопись, а в книгах Бенуа можно было узнать все про любимых художников, про их картины, про то, как они создавались и какое место занимают в музеях и искусстве. И я решил во что бы то ни стало иметь эту сокровищницу у себя. За несколько лет я скопил необходимую сумму, хотя сейчас она кажется смехотворно малой, — 20 рублей. До сих пор в моей библиотеке стоят эти тома…
В первые годы каждое посещение музея было для меня настоящим потрясением. А как иначе назовешь то чувство, которое пришлось испытать, когда в Пушкинском музее вывесили «Форнарину». То была величайшая сенсация! За слоем какой-то посредственной живописи реставраторы раскрыли божественные черты возлюбленной великого Рафаэля, вдохновенно написанной его учеником Джулио Романе. А встречи с Боттичелли, Веласкесом и его школой, Рембрандтом, Рубенсом, Ван-Дейком! Я испытывал истинное счастье.
Навсегда поразило меня чудо Третьяковской галереи. Представьте себе мальчишку, стоящего по часу перед васнецовскими «Богатырями», «Иваном-царевичем на Сером волке», «После побоища». Надо честно сказать, что позже мой пыл к Виктору Васнецову несколько поостыл, но каждый возраст создает своих кумиров: и «начинающемуся» человеку, каким я тогда был, эта чуть наивная живопись давала больше, чем иные, куда более совершенные, изысканные творения. Васнецова сменил и заворожил на всю жизнь великий Суриков. «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове» — всякий раз я видел их как бы наново. И было бы неверно сказать, что меня волновал сюжет, — мощная красота созданий Сурикова ошеломила мою детскую душу независимо от содержания: ведь я и не знал толком, за что везут на казнь боярыню с пронзительными очами, почему розовеет пламя свечей на белых рубахах стрельцов и почему так мрачен и задумчив окруженный девушками старик, который, если бы распрямился, пробил бы головой крышу избы. Это было первым проявлением эстетического чувства, почти бессознательного. С годами оно росло, укреплялось, развивалось, делая доступными Репина, Серова, К. Коровина, Врубеля… Пусть это прозвучит непедагогично, но я нередко прогуливал школу, изменяя ей с Третьяковкой. Более того, родители знали об этом, но смотрели сквозь пальцы.
Когда я выходил из дому — жили мы тогда в Армянском переулке — и ехал с пересадкой к Лаврушинскому либо с Чистых прудов на «Аннушке» к нынешней Кропоткинской, волнение мое стремительно возрастало. Еще бы! Меня ждало свидание с Третьяковкой или Пушкинским. Поначалу я успевал обегать весь музей, а затем количество осмотренных картин все уменьшалось, и настало время, когда я ехал посмотреть только на Серова или только на Рейсдаля, и от этого я становился не беднее, а богаче, ибо «низкое» азартное верхоглядство уступало место сперва пригляду, а потом — проникновению.
Настало время, когда, не заслоняя моей первой влюбленности, в круг интересов вступил Политехнический музей. Наряду с рано проснувшимся интересом к изобразительному искусству все сильнее говорила во мне тяга к миру действительному, к дню сегодняшнему, ко всему, что меня окружало. На моем веку извозчиков сменили такси, появились автобусы, метро, троллейбусы, электрички, бульдозеры. Бурно развивалась авиация, радиотехника… Это было уже моим реальным миром, и Политехнический музей стал притягивать меня и моих друзей как магнит. На это здание я и сейчас не могу смотреть без волнения, когда проезжаю мимо или выступаю в его аудитории. До сих пор помню портреты великих отцов науки, развешанные на стенах: рогатый парик Ньютона, строгие, печальные черты Фарадея, мужицкое лицо Ломоносова, ироническое — Эйнштейна. Помню, какие экспонаты демонстрировались на стендах и что говорили экскурсоводы. И здесь, как среди картин, наплывало ощущение движущегося исторического времени, неуклонной смены форм. И до чего значительна была сосредоточенная, уважительная тишина огромных залов. Такая глубокая тишина, что слышишь ток крови по жилам и упругое напряжение мозга. Вот это ощущение чаровало сильнее, чем чудеса науки и техники. «Я мыслю, — значит, я существую», — сказал философ; это я испытывал с телесной силой в Политехническом музее. А после Политехнического, в каждое посещение, мы с друзьями непременно шли к гигантскому книжному развалу возле Китайской стены. Книги стоили гроши и, стало быть, были нам по карману. Помню, купил «Автомобиль дядюшки Герберта», чудные книжки Перельмана — «Занимательная физика», «Занимательная геометрия». И это тоже было продолжением Политехнического…
Особая статья — музеи этнографические, краеведческие. Не так давно довелось мне побывать в музее, о котором я вспоминаю с неизменным теплым чувством. Его активно блюдет молодая интересная женщина — человек, который с истинным воодушевлением ведет большую и очень ценную благородную работу. Зовут ее Вера Алексеевна Пискалькина. У нее высшее образование, она член партии. И организация этнографического музея в Кашине Калининской области была ее партийным поручением, за которое она взялась со всей серьезностью, со всей душой. Теперь здесь, в старой церкви бывшего женского монастыря, расположился очень содержательный краеведческий музей, посвященный далекому и недавнему прошлому Кашина, а также его сегодняшнему дню. Здесь собрано много уникальных экспонатов, рассказывающих об обозримой истории этого уголка земли Русской, находящегося недалеко от истоков великой Волги. В музее старинные книги, масса изделий старинных мастеров, фарфор, живопись, культовые экспонаты. И все свое, настоящее, имеющее отношение не к истории вообще, а именно к истории Кашина. Замечательные фотографии. Мы узнаем, что кашинцам выпало немало трудных испытаний, из которых они неизменно выходили с честью. Что здесь богатые революционные традиции. Что жили здесь смелые и жертвенные люди. Радостен неподдельный энтузиазм молодой советской интеллигентки, отдающей чистому и высокополезному делу ум, сердце, талант. Хороший краеведческий музей, даже совсем скромный, служит высокой нравственной цели. Он как бы дарит нам частицу земли, неотделимую от тела России. Старая и вечно живая истина — что любовь к большой Родине начинается с любви к малой Родине, месту твоего рождения, воспитания, начала жизненного пути.

![Юрий Нагибин - Вместо предисловия [к сборнику «Время жить»]](/uploads/posts/books/44833/44833.jpg)