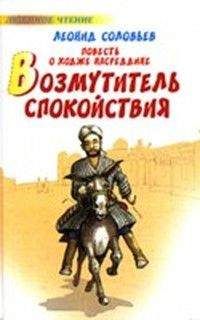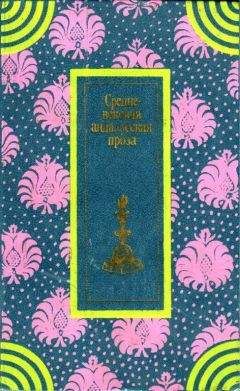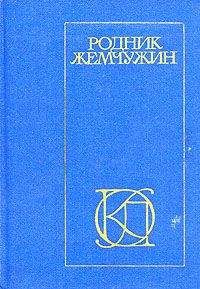Анатолий Рыбаков - Водители
– Около того.
– Вот видишь! А мне уже шестой десяток на исходе.
Из предбанника они вышли в сад. Сквозь листву пробивались золотые лучи заходящего солнца, отбрасывая на дорожки длинные тени деревьев, кустов, высоких деревянных колышков на помидорных грядах. Смородина крохотными зелеными бутончиками уже пошла в ягоду, и ее сладковатый аромат мешался с запахом травы, первых цветов, распускающихся яблонь. Сад сиял всеми оттенками зеленого цвета, от салатного до темного. Поляков вдыхал воздух, казавшийся после бани холодноватым. Хорошо, черт побери! Вспомнилось давно позабытое ощущение отдыха где-нибудь в Сочи или в Крыму. Море с тихим рокотом набегает на каменистый берег, в синей дали белеет дымок парохода, бронзовые юноши и девушки прыгают в воду с вышки, распластав в воздухе тонкие руки. Хочется подставить солнцу спину и лежать, наслаждаясь правом ни о чем не думать.
Обычно Сергеевы обедали в просторной кухне, но сегодня, по случаю гостя, в «зале» накрыли огромный стол под тяжелой, свисающей до пола скатертью. Обстановку этой комнаты, низкой и полутемной, дополнял диван с высокой спинкой, увенчанной деревянной полочкой, где по ранжиру стояли белые слоны. Потускневшая рама большого зеркала была скрыта темно-зелеными листьями фикусов, стоявших в больших деревянных кадушках.
Жена Сергеева, высокая сухощавая женщина с озабоченным лицом, прямые и строгие черты которого говорили о былой красоте, накрывала на стол. Ей помогали обе снохи.
Полотенце, поданное Полякову вместо салфетки, было расшито на концах красными петушками и курочками. Под клеенкой лежали деньги, предназначенные на текущие расходы. В граненых графинчиках переливались настойки и наливки домашнего изготовления, на тарелках громоздились закуски: соленые огурцы, маринованные грибки и помидоры, квашеная вилочная капуста, ветчина собственного изготовления, несколько желтоватая и жесткая.
И все же Полякова не оставляло то странное беспокойство, которое испытывает человек, попавший в дом, где только что произошла ссора: с приходом гостя она прекращена, но следы ее наложили на все тягостный отпечаток. Из-за дверей доносились приглушенные голоса, сердитое перешептывание, торопливые шаги, как будто два человека ссорились и кто-то третий уговаривал их замолчать, ссылаясь на присутствие в доме постороннего человека. Может быть, ничего этого не было, но Полякову так казалось: какие-то нервные шорохи, сердитое хлопанье дверями.
Сам Сергеев был невозмутим. Он сидел за столом без пиджака, расстегнув ворот рубашки с большой медной запонкой, обнажив заросшую рыжими волосами могучую грудь и толстую шею в глубоких, точно зарубцованных морщинах.
Поляков знал его манеру пить и знал также, что отказываться бесполезно. Две стопки выпили под огурчик, одну – под суп, густой и наваристый, распространявший вокруг клубы пара и дразнящий аппетит запах, потом еще одну – под суповое мясо, обильно смазанное горчицей, и, наконец, последние две – под второе: жареную свинину с картофелем.
С каждой рюмкой лицо Сергеева краснело и приобретало благодушно-лукавое и умильное выражение.
– И чего ты с ним ссоришься? – говорил он о Канунникове. – Случайный человек в нашем деле, случайно попал, случаем и уйдет. Подкапывается под тебя, а ты ему карты в руки.
– Зато к тебе благоволит, – заметил Поляков.
– Буду я из-за него кровь портить! С начальством, брат, нужно жить в ладах, чтобы работать не мешало. Возьми меня, сто процентов использования пробега, а ни с кем не ссорюсь.
– Это липа.
– Нет, не липа! Я клиенту говорю: «Нужны тебе машины – загружай в оба конца, чем хочешь загружай, только распишись мне в путевке, что туда и обратно вез».
– Вот они и гонят в одну сторону порожняком, а расписываются за обе. Твоих машин на тракте полно, и все порожние.
– А мне-то что? Пусть ищут обратный груз! Зачем мне голову ломать? Пусть клиент ломает. Беру я с него в оба конца, вот он и начинает мозгами шевелить. Двойной тариф неохота платить, вот и думает.
– Думает, а гонит порожняком.
– А мне какое дело, я-то получаю за оба конца! Разве моя касса не государственная? У них себестоимость увеличивается, зато у меня – уменьшается.
– А в итоге убыток: машина могла бы за те же деньги идти груженой, а шла порожней. Сергеев откинулся на спинку стула.
– Я экономист плохой. Моя наука простая: побольше денег в кассу. И если бы клиент тоже так рассуждал, то не гнал бы порожнюю машину. Их, брат, учить надо!
– Я твои проделки знаю! – Поляков засмеялся. – Только не понимаешь ты простой вещи. Клиент предпочитает переплатить тебе сотню-другую, лишь бы обеспечить производство. Но из этих сотен собираются тысячи. Это как не выключенная днем лампочка: для жильца она не более как лишняя трешка, а для электростанции – лишние миллионы киловатт энергии.
Некоторое время они молчали. Нахмурив лоб, Сергеев пальцами барабанил по столу, потом сказал:
– Ладно, не будем спорить. Расскажи-ка лучше, как там твои поживают.
– Живут, работают.
Сергеев оживился:
– Каких людей я тебе оставил! А, Мишка? Каких людей! Один Степанов чего стоит!
– Хороший работник, – согласился Поляков, – только твоя червоточинка пробивается иногда.
Сергеев самодовольно ухмыльнулся:
– Моя школа! А Потапыч как, скрипит?
– Скрипит.
– Богатый мастер, золотой, у-ни-вер-сальный! Мы с ним еще, знаешь, на каких машинах работали! Тогда шоферы на всю Россию единицами считались… Да… – Он сощурил глаза. – А этот у тебя, как он, Демин, только ты по совести, честно, сто тысяч наездил? Или сменили, может, под шумок моторчик, а?
– Нет, ничего не меняли.
– Верю, раз ты говоришь, верю. Вот что хорошо у тебя, так это Тимошин: тут я тебя поддержу; детали твои не хуже заводских, только, знаешь, чего тебе не хватает? Настоящей термической обработки, вот чего. Ну, ты добудешь. Эх, Мишка, Мишка, чувствую, сгрохаешь ты завод нам всем на удивление, честное слово, сгрохаешь! Ну, скажи, чертушка, за что я тебя люблю? Скажи!
Он сделал болезненную гримасу, схватился эа живот и пробормотал:
– Треклятая! Замучила изжога.
– Лечиться надо, Константин Николаич, – сказал Поляков.
– Вот мой доктор! – Из стоящей рядом коробки он насыпал полную ложку соды, поднес ко рту и, сменив гримасу боли на гримасу отвращения, проглотил, запив поданной ему Поляковым водой.
Давал себя знать плотный обед после бани, выпитая вслед за бессонной ночью водка, – Полякова клонило ко сну, но он сказал:
– Константин Николаич, мне ехать пора.
Морщась от нового приступа изжоги, Сергеев замахал руками. Отдышавшись, закричал:
– Никаких «ехать», ночевать оставайся, все равно машин нет!
– Я ведь тебя просил! – с досадой сказал Поляков.
– Просил, а машин нет. – Сергеев упрямо тряхнул головой. – Утречком позавтракаем, и поедешь.
– Это уже безобразие!
– Безобразие, а ехать не на чем. Не сгорит там без тебя. Ты что? Старика хочешь обидеть! Эх, Мишка, ведь ты мой воспитанник, чувствовать должен! Хоть ты и крепко шагаешь, а помни! Шагаешь – а помни!
– Куда это я шагаю? – Поляков усмехнулся.
– Правильно, пусть все видят, какие из нашей братии люди получаются. Вот что ты мне объясни. Что это я хотел спросить? Да… Почему у нас День автомобилиста не празднуют?
– Какой это день?
– Есть День авиации, День железнодорожника, День шахтера, а Дня автомобилиста нету, почему?
– Кто его знает… Профессий в Союзе много! Если каждую праздновать, календаря не хватит.
– Вот и не знаешь, – Сергеев улыбнулся, – не знаешь ты, милый человек, а я знаю.
– Почему же?
– А потому, что если для нас специальный праздник объявить, так мы всю водку выпьем, понял? Здоров наш брат пить! А почему, спрашивается? Работа такая. Он тебе и в холод, и в дождь, и в снег.
– Не так уж много шофер пьет, – возразил Поляков. – Все это больше разговоры.
– Да, конечно, – не стал спорить Сергеев.
Он встал, включил приемник.
– Люблю, – сказал Сергеев. Густым, низким басом, еще больше картавя, подтянул:
Вот мчится тройка удалая…
Вдоль по дороге столбовой…
Он замолчал, голова его упала на грудь. Песня стонала и жаловалась:
Теперь я горький сиротина…
И неожиданно загремела широко и сильно:
И вдруг взмахнул по всем по трем…
Сергеев наклонился к Полякову и зашептал:
– Слушай, Миша, что скажу. Понимаешь, вот я и директор, сам знаешь, из чего я вышел, а чувствую: много во мне этого… Чувствую, а вытравить не могу. – Он обвел комнату руками: – Это требуха, мелочь, а вот по работе… Вижу, что неправильно, а как правильно – нe знаю. – Он ударил в грудь кулаком. – Разве я не работник?
И сразу замолчал, потом усмехнулся:
– Предлагали мне работу в тресте. Управляющим хотели сделать. Да ведь я за почетом не гонюсь, мне хозяйство нужно, чтобы дело делать, а бумаги не для меня, я не Канунников.