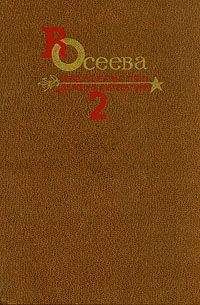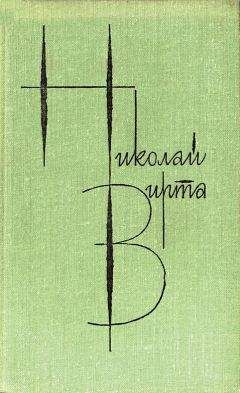Валентин Катаев - Собрание сочинений в девяти томах. Том 1. Рассказы и сказки.
— Да, — ответил Блох, задул свечу, вытащил ее из горлышка бутылки и спрятал в карман.
Наступил мрак.
Мы вышли. Ночь стояла черная, как тушь. С большим трудом можно было отличить небо от крыш и деревьев.
— Они убьют нас, — прошептал Блох мне на ухо.
— Черт с ним! — сказал я, и мне показалось ужасно диким и чужим это «черт с ним». Страха не было. Была какая-то необъяснимая уверенность в себе.
На секунду все остановились и прислушались, и всем почудился отдаленный конский топот. Скользя, пошли вперед. Где-то далеко, может быть за восемь верст, залаяла собака. Румынские солдаты о чем-то горячо шептались. Блеснула слабая полоска света. Вероятно, из окна хаты.
— Здесь! — сказал толстый болгарин.
— Ладно, ладно! Идите все вперед!
Солдаты потолкались у заскрипевшей калитки и неохотно вошли в хату. Среди них начинался ропот и послышалась ругань.
— Блох, оставайтесь здесь, у калитки. В случае чего — крикнете. Если я крикну, бегите ко мне.
Я вошел в хату. У ярко пылавшего очага расположились шесть румынских солдат. Часть из них была без мундиров. Некоторые курили. Один из них, засучив рукава выше локтей, месил в корыте желтоватое душистое тесто. На самом жару, в углях, на сковородке шкварчало и дымилось сытым, вкусным запахом свиное сало.
Они, очевидно, и не думали уходить. Они разговаривали между собой по-болгарски. Все это было подозрительно. Солдаты, которые привели меня сюда, побросали карабины на пол и расселись вокруг огня. И вдруг я себе ясно представил, что, может быть, через десять минут здесь будут болгарские разъезды. Я вспомнил про солдата, бежавшего из болгарского плена с отрезанным ухом и простреленной лопаткой, — он пришел к нам на батарею истощенный и душевнобольной от пережитого. Какая-то торопливая, нервная энергия нахлынула на меня, и я стал кричать на румынских солдат. Мне казалось, что они меня по-русски не понимают, и я начал подбирать французские фразы, как будто это было бы понятнее:
— Je suis volonteur russe! C'est la meme chose que officier! Mordieu![22] Сию минуту выходите все из хаты!
Румыны нерешительно оглянулись и стали делать вид, что поднимаются с места. Я подвинулся ближе к двери. Солдат, который месил тесто, улыбнулся, показал на лоханку и причмокнул губами. Я вынул из кобуры револьвер и посмотрел на свет барабан, есть ли патроны. Румыны повскакали с мест и стали быстро собираться. Лица у них сделались злыми, и кое-кто стал открыто ругаться.
— Скорее, скорее! Черт возьми!
Один за одним они проходили мимо меня к двери и выходили в ночь. Секунды тянулись бесконечно. Каждая приближала опасность. Наконец, вышел последний, а за ним и я. После огня приходилось пробираться ощупью, одной рукой касаясь стены, а другой балансируя. Кое-где стали заметны пятна людей, деревьев, крыш. Вдруг возле самого моего уха кто-то сказал негромко, испуганно и напряженно:
— Кто идет?
Это был Блох. И по голосу его я понял, что он перечувствовал один в темноте, пока я выгонял из избы румын.
— Я. Где румыны?
— Здесь. Идем. Ничего не слышно?
— Ничего... Как будто... топот!
Мы затаили дыхание. Где-то очень далеко залаяла собака.
— Мне страшно, Валя, — сказал Блох, в первый раз назвав меня по имени.
— Эй, сюда, румыны! — закричал я и испугался собственного голоса.
Два силуэта приближались к нам.
— А где остальные?
Остальных не было. И было бы безумием их искать.
IIIМы пошли вчетвером посередине мокрого, скользкого шляха, торопясь и поминутно касаясь руками земли, и все время позади, далеко лаяли собаки, и нам казалось, что слышится конский топот. Мои глаза привыкли к темноте, но я все-таки с трудом различал неровности дороги. Вдруг слева, из кучи мокрых деревьев, в нас ударил яркий сноп света. Светилось окно в чьем-то доме, и даже была видна горевшая полным пламенем лампа, стоявшая на подоконнике. Посреди черного сада, окружающего дом, слабо тлели уголья гаснущего костра. Костер был похож на одинокого светляка, горящего мертвым, неподвижным огоньком в страшном дремучем лесу.
— Там кто-то есть, — сказал я. — Нужно пойти посмотреть.
— А они? — спросил Блох, показывая головой на болгар.
— А черт с ними! Пускай удирают, все равно ничего не выйдет.
Блох нашарил калитку, и мы пошли прямо на огонь. У костра не было ни души, но казалось, что здесь только что были люди. На подоконнике открытого окна рядом с лампой лежала женская шляпа с черной вуалью, как будто бы только что снятая и положенная здесь.
Мы взбежали по скрипучим деревянным ступеням на террасу и вошли в незапертые двери. Комната была пуста, но в ней чувствовался тот неуловимый запах, по которому безошибочно угадывается присутствие человека. По стенам висели фотографии каких-то мужчин и женщин, засиженные мухами, и лубочные олеографии духовного содержания. Грубые размалеванные лица святых, окруженные ярко-желтыми нимбами, смотрели на нас жестко и безразлично. У стены стоял стол, покрытый чистой белой скатертью, и на нем лежали раскрытый латинский молитвенник, четки и черные перчатки.
Блох прошел в соседнюю комнату, и его шаги гулко отдавались в пустом доме. Там тоже никого не было. Мне стало страшно.
— Блох, идем отсюда!
Мы вышли в сени. В потолке зияла черная дыра — ход на чердак, но лестницы не было. Блох крикнул вверх:
— Эй, кто там?
Казалось, что его окрик влетел камнем в черную дыру, да там и остался. Дом молчал. Я почувствовал, что у меня шевелятся волосы на голове и неприятный холод щекочет кожу на ногах и спине. Не сказав друг другу ни слова, мы бросились бежать, цепляясь ногами за кусты и какие-то прутья.
Только далеко от дома мы пришли в себя. Мы тяжело дышали и обливались потом. Болгар не было. Когда мы подходили к перекрестку, совсем близко заржала лошадь, послышались храп и хруст удил, и чей-то мужской голос громко произнес какую-то фразу, но так быстро, что нельзя было понять, по-русски это или нет.
Мы застыли на месте.
Я хотел броситься в сторону, лечь на черную землю, затаить дыхание и ждать, но продолжал стоять неподвижно как дерево, чувствуя рядом с собой такую же неподвижную фигуру Блоха. На сером фоне неба один за другим появлялись силуэты всадников. Их было восемь или десять. И вдруг я неожиданно для себя закричал:
— Кто идет?
Блох не пошевелился. Всадники осадили лошадей, и голос из темноты крикнул:
— Кто идет?
Тогда Блох крикнул:
— Русские?
Голос из темноты ответил:
— Русские. А вы кто?
Мы подошли. Всадники были совсем близко. Я всем своим существом чувствовал, что опасность миновала, но все-таки где-то в глубине души шевелился страх: а вдруг болгары? И я дрожал.
— Ради бога, скажите, где наша пехота? — спросил Блох.
— Ушла, — ответил один из всадников. — Должно, отседова верстов пять-шесть.
— А сзади кто-нибудь есть?
— Никого. Мы последний разъезд. Мы все время были в соприкосновении с болгарскими авангардами. Тут ихних два эскадрона. А вы кто такие?
— Мы отставшие, — сказал Блох. — Артиллеристы. Он контужен. Последними ушли с наблюдательного пункта.
Голос сказал что-то неопределенное, вроде «ага». Кавалеристы минуту постояли и потом тихонько тронулись, сворачивая на большую дорогу.
— Подождите! — закричал им вслед Блох с отчаянием. — Может быть, у вас есть лишняя лошадь? Мы артиллеристы. Умеем ездить. Он контужен.
Кавалеристы опять позадержались, и тот же голос сказал:
— Лошадей нет. Идите в деревню Пантелеймон-Десус, отседова верстов восемь. Мы идем туда, там, должно, наши остановятся. Прямо по этой дороге.
Пока мы были с людьми, я был спокоен, но чувствовал, что, если эта последняя горсточка «своих» бросит нас, меня охватит тяжелое, черное отчаяние, и я уже почти осязал, как оно шевелится на дне моей души, подобно огромному угловатому камню. Внезапно мне представилось, что мы легко можем отстать от разъезда, потерять дорогу, заблудиться в этой чернильной темноте.
— Поезжайте шагом, чтобы мы не отстали... А то хоть пропадай.
— Держитесь прямо по дороге. Верстов восемь, — отозвался голос, и разъезд тихонько тронулся.
Мы пошли за ним крупным шагом, кусая со злости губы до крови, когда скользкая дорога и стоптанные сапоги заставляли нас падать, цепко хватаясь друг за друга пальцами дрожащих рук. Внезапно разъезд перешел с шага на рысь и скрылся в темноте. Мы ничего не успели подумать. Мы не сказали друг другу ни слова и все шли и шли, придавленные, напрягая последние силы, думая только о том, что, может быть, за селом дорога будет лучше. Возле некоторых домов воздух был насыщен запахом разлитого спирта, от которого кружилась голова и тошнило. Здесь, вероятно, уходящие солдаты громили погреба, выкатывали бочки, разбивали прямо посреди улицы прикладами. Земля была пропитана дрянной румынской водкой, от которой разило не то перцем, не то чесноком. Скоро мы вышли в поле. Дорога сделалась немного лучше, ровнее. Чутьем затравленного зверя угадывая направление, видя перед собой только черное поле и небо, которое было едва посветлее поля, мы шли изо всех сил. От быстроты и напряжения наши мозги, казалось, колотились о стенки черепа, и это причиняло тупую боль. Местность была совершенно ровная, и только в одном месте мы прошли мимо большой темной массы, вероятно — кургана. Блох начинал спотыкаться: у него потели ноги, и пот, въедаясь в язву, натертую сапогом, причинял ему страдания. Я чувствовал, что он отстает, но не уменьшал шага. Я слышал позади его нервные спотыкающиеся шаги и представлял себе его перекошенное горбоносое лицо, и это меня непонятно злило. Все ощущения и чувства перелились в эту глухую злость. Я тоже вспотел, и мое грязное тело, искусанное вшами, стало чесаться. Гонка продолжалась десять минут, а может быть, и час, потому что чернота ночи и однообразие ходьбы уничтожали понятие о времени.