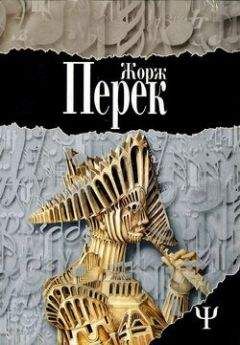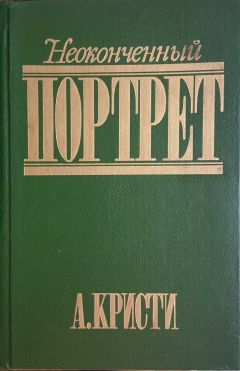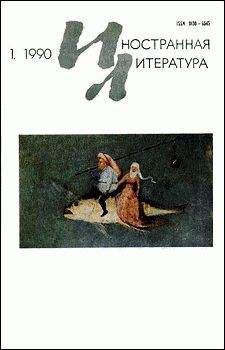Юрий Трифонов - Исчезновение
– Boт! – говорит Игорь, радостно протягивая ладонь, на которой лежит превратившаяся в косточку урючинка. – Видал? Возьми!
Бородатый берет урючинку, смотрит на нее равнодушно и бросает на пол.
...Бабушка была очень разгневана, когда узнала, что он ушел с канала самовольно. «Как! Стройку еще не закончили, а ты сбежал! Когда весь народ напрягает силы...» Она даже хотела пойти в школу и пожаловаться директору, совсем с ума сошла. А что Игорю школа? Он ее закончил и расплевался с ней. Директор там был болван, занятый только своим садом и торговлей на базаре. Это верно, он ненавидел эвакуированных и мог от ненависти сделать любую пакость, но тогда, в августе, он не имел уже никакой власти над Игорем. Игорь мог сказать ему все, что накипело, и несколько раз его подмывало высказаться на улице, когда они встречались нос к носу, но он себя сдерживал: боялся, что тот будет мстить Жене, ей предстояло еще учиться в восьмом. И вот к такому человеку старуха собиралась пойти жаловаться. Она просто рехнулась. Ей не хотелось, чтоб он уезжал в Москву, в этом было все дело. С нею становилось труднее, особенно с тех пор, как она взяла к себе в комнату Давида Шварца, и другая старуха, жившая в этой же комнате, протестовала.
Эта другая старуха, Синякова, тоже с дореволюционным стажем, была отвратительная особа. Она все время пыжилась, гордилась какими-то заслугами и к другим старикам, в том числе к бабушке и к Давиду Шварцу, относилась с высокомерным презрением. А бабушка рассказывала, что когда-то, когда бабушка работала в секретариате, эта женщина перед нею заискивала и Давид Шварц в двадцать каком-то году спас ее во время чистки от исключения. Но теперь бабушка была обыкновенной несчастной старухой, жившей на пенсию и бедствовавшей, как другие, а Давид Шварц из грозного, всесоюзно известного судьи превратился в больного, полупомешанного старичка и Синякова могла презирать их, издеваться над ними. Она называла их оппортунистами и то и дело пускала ехидные замечания вроде: «Это вам не Серебряный бор». Однажды колхозники привезли в подарок мед, Синяковой почему-то не досталось, и она побежала в райком с жалобой: почему мед получили оппортунисты, а не она, кристальный член партии, ни разу не подписавшая ни одной оппозиционной платформы...
Иногда Синякова втравляла бабушку в политические споры. Делала это хитро: начинала тихонько, издалека, постепенно наглела, говорила подлости, ложь, и бабушка, не выдержав, вступала с ней в перепалку. Последним торжествующим доводом Синяковой было: «Вот я здесь, я честный человек. А где твой зять? Где твоя дочь?» Она была толстая, большая, с красным задубенелым лицом и синенькими глазками-щелочками. Без левой руки. Говорила, что потеряла руку на Гражданской войне. Ио Игорь не верил ей.
Бабушка говорила, что она случайный человек в партии. Несмотря на то что безрукая, умела и любила драться. Как-то подралась с одним стариком возле титана – то ли она хотела получить кипяток без очереди, то ли он стремился к тому же. Она била его чайником по спине и кричала: «Ты бундовец! Я знаю, что ты бундовец!» Давида Шварца она тоже называла бундовцем, хотя бабушка говорила, что это смехотворная ложь, Шварц никогда бундовцем не был и, наоборот, всегда резко критиковал бундовцев. Однажды Синякова замахнулась на бабушку. Женя как раз входила в комнату и, схватив с подоконника ножницы, подскочила к громадной старухе. «Если вы хоть пальцем тронете мою бабушку, я вам проколю живот!» Синякова долго потом разорялась, грозила милицией, называла Женю «вражьей кровью», но все-таки Женя оказалась единственным человеком в комнате, а может, в поселке, кого она побаивалась. Каким-то чутьем чуяла, что Женя и правда может кольнуть ножницами в живот. Игорь-то знал, что может: Женя отчаянная, на нее «находит», как на Леню Карася.
Давида Шварца Синякова ненавидела особенно злобно. Наверное, как раз потому, что когда-то он ей сделал добро. Она старалась выжить его из комнаты: говорила про него и про бабушку гадости, смеялась над его жалким видом, нарочно открывала окна, чтоб простудить его. Бабушка больше всего страдала из-за этих синяковских издевательств над Шварцем, поэтому вспыхивали скандалы с криками и взаимными угрозами: «Ты ответишь за свои слова!» – «Я подам на тебя в КПК!» Игорь не мог слышать криков, не мог видеть белого лица бабушки. Он уходил. Если б Синякова была мужчиной, он бы ударил ее. Но со старухой не знал, что делать.
На крики сползались другие старики и старухи, начинались разбирательство, пересуды, товарищеские укоризны и увещевания, тем более долгие и любовно-тщательные, что всем этим старикам и старухам делать было абсолютно нечего. Синякова твердила свое: «Я хочу, чтобы этого аморального человека убрали из комнаты!» Аморальность Давида Шварца заключалась в том, что он объявил, что не будет ни мыться, ни бриться до «возвращения в Москву»: в его больном сознании тут была какая-то связь с зароками его молодости, когда он объявлял голодовки в тюрьмах или отказывался отвечать следователю. Это был его ответ войне, фашистам, эвакуации, невзгодам и ужасам здешней жизни, своему унизительному положению, которого он не понимал в полной мере, но, наверное, ощущал, как ощущают погоду, перемену давления. Заставить Шварца помыться могла одна бабушка, и то ей удавалось это с трудом и не всегда. Кроме бабушки, он никому не был нужен. Единственная сестра Давида Шварца умерла перед войной, приемный сын Валька был неизвестно где, то ли в военном училище, то ли на фронте, ничего не писал, а старушка Василиса Евгеньевна осталась в Москве и тоже ничего не писала. Бабушка не могла отпустить его из своей комнаты, как бы ни ярилась Синякова, потому что знала – без нее он погибнет.
Давид Шварц не замечал, не видел и не слышал, какие страсти бушевали вокруг него. Разбирательство его «дела» в присутствии нескольких крикливых стариков происходило иногда прямо над его головой, но он безучастно и молча лежал на койке и смотрел на спорящих так, точно они были на другой планете. Мозг его был занят каким-то упорным размышлением. Внезапно его лицо могло осветиться отблеском з д е ш н е й мысли, он вдруг хмурился, садился на койке и вскрикивал сурово и гневно, как когда-то: «Перестаньте шуметь! Идиоты», – но прежнее размышление сейчас же одолевало его, он вновь погружался в полусон, ложился навзничь и смотрел на крикунов издалека. Старик очень страдал от жары, сбрасывал с себя одежду и почти весь день проводил в кальсонах. Мог в кальсонах пойти в столовую. Игорь сам дважды перехватывал его на дороге и силою тащил в дом. Бабушка плакала: «Если б ты знал, какой это был человек! Какой ум!» Она считала, что человека уже нет, осталась лишь никчемная, неопрятная оболочка. И все-таки бабушка любила и жалела Давида Шварца. Иногда Игорю казалось, что она любит старика больше, чем его, Игоря, и даже больше, чем Женю.
На Шварца бабушка никогда не сердилась, а Игорь и Женя ее часто раздражали, она ругала их из-за пустяков, один раз даже ударила Игоря по лицу. С легкостью могла назвать его негодяем, лгуном, дрянцом. Особенно быстро воспламенялось ее раздражение после какого-нибудь разговора с Синяковой. Игорь так и знал: если утром была у них ссора, значит, днем бабушка непременно начнет цепляться к нему и к Жене. С Синяковой она сдерживалась изо всех сил, зато с ними распускала нервы вовсю. Нет, то были не истерики, то были злые несправедливости. Правда, бабушка никогда не терзала Игоря и Женю при Синяковой. При «этой бандитке» семья должна была выглядеть сплоченной и дружной.
Среди стариков были и неплохие люди. Некоторые сочувствовали бабушке в ее борьбе с Синяковой, другие жалели Давида Шварца, навещали его, приносили фрукты, орехи – он очень любил грецкие орехи. Одна старушонка как-то подошла к Игорю, когда он сидел в одиночестве на берегу Боз-су, и тихо сказала: «А я твоего папу знала по Кавказскому фронту. Я его очень уважала. Он был настоящий большевик». И, не дожидаясь ответа, пугливо оглянувшись, ушла и больше никогда не подходила к Игорю, даже не здоровалась с ним.
Почти все старики считали, что с Давидом Шварцем дело окончательно плохо. За три года перед началом войны его уже сажали в сумасшедший дом, продержали там несколько месяцев и выпустили, но бабушка говорила, что он «уже не тот». Ему даже дали работу: научным сотрудником в каком-то этнографическом музее. Игорь помнил тогдашние разговоры. Одни негодовали: «Это издевательство – засунуть Давида Шварца в музей!» Другие, и среди них бабушка, возражали: «Наоборот, это акт гуманности. Ему дали работу, чтобы он почувствовал себя человеком. Работа его вылечит». Бабушка и теперь верила в то, что его что-то вылечит. «Давиду надо вернуться в Москву, – говорила она. – Как только он вернется, он выздоровеет».
Иногда Игорю казалось, что старик безнадежен, но иногда он случайно ловил его осмысленный, сосредоточенный и глубокий взгляд – это бывало, когда Шварц «работал», то есть, лежа на койке, писал на длинных листах бумаги какие-то бесконечные ряды цифр, – и Игорю на мгновение мерещилось, что старик придуривается, обманывает всех. Но в следующее мгновение он понимал, что это пустая надежда. Бумаги, испещренные цифровыми строчками, Шварц прятал под подушку, но часто они оставались лежать на постели, валялись на полу, и бабушка, Игорь и Женя всегда их подбирали, а Синякова, конечно, рвала и жгла. Некоторые листки она садистски накалывала в уборной на гвоздь. Что означали эти цифры, понять никто не мог. Бабушка много раз спрашивала у Шварца и ласково, и очень строго, и неожиданно, чтоб застать врасплох: «Давид, что ты пишешь?» Он отвечал сердито: «Это тебя не касается». И все же, зная, что он не в себе, бабушка верила, что в его записях кроется что-то важное. Она думала, что он пишет старым подпольным шифром свои воспоминания, и поэтому старалась сохранять бумажки, собирала их и прятала в чемодан. Все эти бумажки пропали вместе с чемоданом, который исчез у Игоря на глазах на куйбышевском перроне.