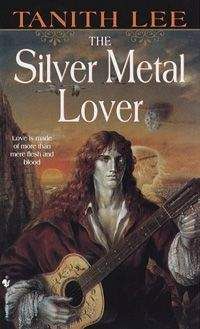Чингиз Айтматов - Плаха
– Слушаю, владыка, – ответил покорно семинарист.
– Так вот, повторяю, я не стану распекать тебя и читать тебе нотации. Такие примитивные способы воздействия не для тебя. Но те речи, что ты себе позволяешь – и не так по легкомыслию, как по горячности, – не могут не вызывать досады. Но и при этом ты, наверно, заметил, что я говорю с тобой как с равным. Более того, ты достаточно умен… Скажу тебе откровенно: в интересах церкви, чтобы ум твой не противостоял ее учению, а служил бы безраздельно и безусловно заветам Господа. И я не скрываю этого. Хотя мог бы и за уши отодрать тебя по-отечески, поскольку хорошо знавал твоего покойного батюшку и в добром был с ним взаимопонимании. Человек он был воистину христианских добродетелей и к тому же весьма образованный. Но вот судьба свела и с тобой, Авдий, с сыном покойного дьякона Иннокентия Каллистратова, выражаясь канцелярским языком, многие годы бывшего служителем церкви. И что же выходит? Не скрою, вначале был весьма наслышан о тебе с положительной стороны, но привели меня сюда теперь, как сам понимаешь, обстоятельства тревожного свойства. Получается, что ты встал на путь ревизии вероучения, будучи, если взять твой статус, всего лишь обученцем. Из твоих даже чисто случайных высказываний я успел убедиться, что заблуждения твои, пожалуй, больше возрастного характера. Хотелось бы так думать. Дело в том, что молодости в силу целого ряда причин свойственна особая самонадеянность, которая по-разному проявляется у разных лиц в зависимости от темперамента и воспитания. Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы пожилой человек, изведавший немалые жизненные муки, разуверился бы в Боге к концу жизни или стал бы толковать на свой лад божественные понятия? Нет, такое если и случается, то, несомненно, случается крайне редко. Суть божественного все глубже познается именно с возрастом. Ведь все европейские философы, в частности так называемые французские энциклопедисты, начавшие в смутную предреволюционную эпоху атеистический штурм религии, который длится уже двести с лишним лет, были, кстати сказать, молодыми людьми, не так ли?
– Да, владыка, они были молоды, – подтвердил Авдий.
– Ну вот видишь. Не говорит ли это о том, что молодости свойствен эдакий – модное сейчас слово – экстремизм, прежде всего потому, что это ее возрастная особенность?
– Да, но эти молодые люди, которые, на ваш взгляд, владыка, оказались экстремистами, имели, скажем для справедливости, к тому же еще довольно основательные убеждения, – вставил Авдий.
– Безусловно, безусловно, – поспешил согласиться отец Координатор, – но это особый вопрос. Во всяком случае, они не были священнослужителями, их отношение к религии было их частным делом, с них другой и спрос, а ты, сын мой, будущем пастырь.
– Тем паче, – перебил его Авдий, – ведь, по идее, люди должны всецело верить мне и моим познаниям.
– Не спеши, – нахмурился отец Координатор, – если ты не намерен взять в толк сказанное мной для твоего же блага, давай поговорим по-другому. Ну, во-первых, не тобой первым, не тобой последним овладевает дух противоречия на стезе постижения веры. Таких, как ты, засомневавшихся, церковь на своем веку знавала немало. Ну и что? В каждом великом деле неизбежны издержки. Такие преходящие моменты, случайности были и будут. Важно то, что они имеют совершенно неизбежный исход: или решительный отказ субъекта от своих сомнений и решительный его поворот с еще большим усердием и рвением к неукоснительному признанию истинной веры, из чего вытекает прощение его вышестоящими отцами, или, в случае его упрямства и несогласия, исторжение оного еретика из лона церкви и предание его анафеме. Тебе ясно, что третьего пути не дано, что третий путь исключается? Новомыслие твое не может быть принято. Тебе ясно?
– Да, владыка, но я допускаю, что третий путь необходим не так мне, как самой церкви.
– Ну-ну, – насмешливо покачал головой отец Координатор. – Это же надо такое нагородить! – воскликнул он и с горьким злорадством предложил: – Так изложи, будь милостив, что это за третий путь ты уготовил Священной церкви. Уж не революцию ли какую? Ведь такого еще не знала история…
– Преодоление вековечной закоснелости, раскрепощение от догматизма, предоставление человеческому духу свободы в познании Бога как высшей сути собственного бытия…
– Остановись, остановись! – запротестовал отец Координатор. – Это самодеятельность смешна, дорогой!
– Ну если вы исключаете самостоятельность мысли как таковую, то, к сожалению, владыка, нам не имеет смысла дальше разговаривать!..
– Вот именно – не имеет смысла! – разгорячился отец Координатор и встал с места. Голос его загудел: – Очнись, юноша, отринь гордыню! Ты на гибельном пути! Ты мнишь, несчастный, что Бог лишь плод твоего воображения, а потому сам человек почти Бог над Богом, тогда как само сознание сотворено небесной силой. Дай волю новомыслию, и ты на нет сведешь тысячелетние заветы и запреты, так дорого оплаченные людьми в прозрениях и муках, чтобы пронести божественные устои через все поколения. Вот куда ты метишь, ратуя за раскрепощение от догматизма, тогда как догматы даны по благодати Господа. Без новомыслий церковь может стоять, как стояла, а без догматов вероучения быть не может. И если уж на то пошло, запомни: догматизм – первейшая опора всех положений и всех властей. Запомни. Ты, якобы улучшая Бога новомыслием, на самом деле игнорируешь его. И ты готов собою подменить его! Но благо не от тебя и не от подобных тебе зависит, как Богу с нами быть, – твое же богохульство уничтожает только тебя самого. А Господь пребудет неизменно и вечно! Аминь.
Авдий Каллистратов стоял перед отцом Координатором с побелевшими губами: юноше было мучительно его бурное негодование. И все-таки он не отступался:
– Простите меня, владыка, не стоит приписывать небесным силам, что проистекает от нас самих. Зачем было бы Богу создавать нас столь несовершенными, если бы Он мог избежать того, чтобы мы, Его творения, сочетали в себе одновременно две противоположные силы – силы добра и силы зла. Зачем бы Ему понадобилось делать нас столь подверженными сомнениям, порокам, коварству даже в отношениях с Ним самим. Вы ратуете за абсолют вероучения, за конечное раз и навсегда постижение сущности мира и нашего духа, но это же нелогично – неужто за две тысячи лет христианства мы не в состоянии добавить ни одного слова к тому, что было сказано едва ли не в добиблейские времена? Вы ратуете за монополию на истину, но это по крайней мере самообман, ибо не может быть такого учения, даже богоданного, которое бы раз и навсегда познало истину до конца. Ведь если это так, значит, это мертвое учение.
Он замолчал, и в наступившей тишине слышно стало, как зазвонил за окном колокол городской церкви. Так близок и так знаком был тот колокольный звон – символическая связь между человеком и Богом, и Авдию хотелось уплыть, удалиться, исчезнуть, как эти звуки, в бесконечности…
– Ты слишком далеко заходишь, молодой человек, – промолвил отец Координатор холодным, отчужденным тоном. – Мне не следовало бы заводить с тобой теологические споры, ибо твои познания весьма незрелы и даже сомнительны, – не говоришь ли ты по наущению врага рода человеческого – дьявола? Но одно скажу тебе на прощание: тебе с такими мыслями не сносить головы потому, что и в миру не терпят тех, кто подвергает сомнению основополагающие учения, ведь любая идеология претендует на обладание конечной истиной, и ты с этим непременно столкнешься. А жизнь мирская куда жестче, чем может показаться, и ты еще поплатишься за свое недомыслие и еще припомнишь наш разговор. Но довольно, готовься уходить из семинарии, ты будешь отлучен от церкви – дома Божьего!
– Моя церковь всегда будет со мной, – не отступался Авдий Каллистратов. – Моя церковь – это я сам. Я не признаю храмов и тем более не признаю священнослужителей, особенно в сегодняшнем их качестве.
– Что ж, мальчик, дай Бог, чтобы все обошлось, но можешь быть уверен: мир научит тебя слушаться, ибо там существует насущная необходимость – добывать себе кусок хлеба. И эта необходимость до сих пор повелевала жизнью миллионов таких, как ты…
Предостережения эти потом действительно припомнились не раз и не два, но всякий раз Авдию Каллистратову казалось, что главное в его предназначении, некий высший смысл – еще впереди, как черта видимого горизонта, что все перипетии и житейские невзгоды на пути к нему лишь временны и что настанет день, когда многие люди последуют его примеру, а не в этом ли цель его существования?
В те дни, когда он ехал вместе с гонцами за анашой в конопляные степи, глядя с утра до вечера на пустынные просторы из окна поезда, он говорил себе: «Ну вот, теперь ты сам по себе, ни с чем не связан, кроме задания редакции, во всем остальном ты волен распоряжаться собой по своему усмотрению. Ну и что, что тебе открылось в хождении по мукам? Вот она, жизнь, как она есть, и ты лицом к лицу с ней. Как и сто лет назад, народ едет в поезде откуда-то и куда-то, и ты один из пассажиров, и гонцы среди них тоже пассажиры как пассажиры, но потенциально они люди отчаянные – ведь они паразитируют на одном из самых страшных пороков. Тот горький дым, казалось бы, ничто, сладкий дурман, но он разрушает человека в человеке. А как ты защитишь их, когда они сами себя приносят в жертву? Знаешь ли ты, отчего все это проистекает? В чем кроются причины? Молчишь – не знаешь, с какого конца подойти, как объяснить, что предпринять? А не ты ли рвался с неудержимой силой из стен семинарии на стремнину жизни, чтобы хоть в чем-то изменить ее к лучшему? Соученики по семинарии тебя идеалистом окрестили. Не зря, наверно. А сейчас ты уже думаешь, нуждаются ли эти гонцы в тебе, необходимо ли им, чтобы ты вмешивался в их дела и поступки. Да и что ты можешь для них сделать? Переубедить, заставить жить другой жизнью? И пока ты терзаешься, думаешь что да как, они едут с твердо намеченной целью, и жаждут удачи для себя, и видят в том счастье свое. Но как их разубедить, как повернуть их лицом к истине? А если не вмешаться, не помочь, они рано или поздно будут осуждены, заперты в колониях, но воспримут это не как вину, а как беду. Другое дело – суметь отвратить от зла, очистить покаянием, заставить самих отречься от этого преступного промысла и увидеть подлинность счастья в другом. Как это было бы прекрасно! Но в чем они должны увидеть свое счастье? В наших рекламируемых ценностях? Но ведь они порядком обесценены и вульгаризированы. В Боге, в котором они с детства видят дедкино-бабкино посмешище, сказку, и не больше? И в конечном счете что может слово перед возможностью заиметь запросто большие деньги? У всех ныне на устах расхожий афоризм – спасибо к делу не пришьешь, а деньги – это деньги! А эти деньги, что делают гонцы, наверно, не только наши, но очень даже возможно, что и чужие, – вон сколько гонцов едет из портовых городов – из Мурманска, Одессы, Прибалтики, а говорят, и с Дальнего Востока. Куда уходит анаша и производное от пластилина и экстры? Да разве дело в этом – куда уходит? Почему это происходит, почему возможно такое в нашей жизни, в нашем обществе, которое на весь мир провозгласило, что наша социальная система недоступна для пороков. О, если бы удалось так сделать, написать такой материал, чтобы откликнулись на него многие и многие, как на кровное дело свое, как на пожар в собственном доме, как на беду собственных детей, только тогда слово, подхваченное многими небеспристрастными людьми, может пересилить деньги и победить порок! Дай-то Бог, чтобы так оно и получилось, чтобы сказано оно было не впустую, чтобы, если и вправду „Вначале было слово“, то чтобы оно и осталось в своей изначальной силе… Так бы жить, так бы думать…