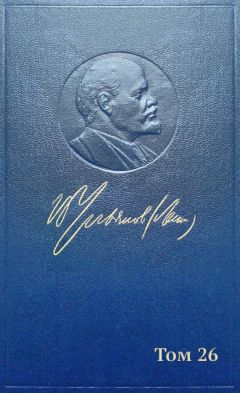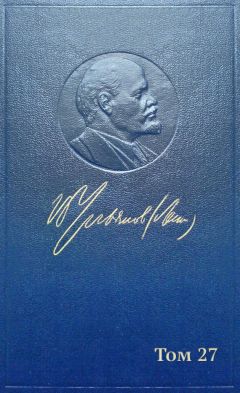Михаил Соколов - Грозное лето
— Господин майор, я не понимаю, что вы от нас хотите? — спросил Орановский.
— Помощи Самсонову и его доблестной армии, беспрестанно сражающейся вот уже десять дней в то время, когда Ренненкампф мародерствует и нежится с немками в объятиях Бахуса, — ответил Нокс запальчиво, резко и заключил: — И я требую как союзник: заставьте ваших подчиненных генералов воевать, как положено военным, как союзникам, наконец, как великой державе, России. Жоффр расстрелял бы таких генералов, как Благовещенский и Артамонов, подчиненные которых отступают только потому, что услышали от какого-то младшего офицера приказ отступать. Не от имени Самсонова, командующего армией, а от рядового офицера, записавшего чей-то сомнительный телефонный разговор, явно провокационный, как то и случилось с корпусом Артамонова. Это у вас называется военной дисциплиной? Разврат это!
Орановский опять напросился:
— Господин Нокс, чем мы, русские генералы, обязаны подобному во взаимоотношениях с союзниками?
— А тем обязаны, генерал Орановский, — отпарировал Нокс, — что союзники дали вам сотни миллионов рублей займов, что ваш великий князь Михаил сидит в Лондоне и заказывает вам вооружения, тем, наконец, что вы подписали военную конвенцию на предмет совместных действий против Германии. Разве этого не достаточно, чтобы мы, союзники, позволили себе говорить со своими друзьями таким образом? И я скажу именно так в ставке вашего верховного главнокомандующего. И правительству его величества телеграфирую в Лондон. И знайте: за поражение второй армии Самсонова последует поражение первой армии Ренненкампфа. А Франция уже потерпела поражение в Арденнах. И Бельгия тоже. Вы понимаете, что это означает для судеб войны, господа русские генералы? Вы ничего не понимаете.
Он ушел, хлопнув тяжелой дверью, и в кабинете наступила тишина. Неслыханно! Английский майор отчитал русских генералов, как хозяин отчитывает своих батраков. И его нельзя было оборвать и выпроводить за дверь. Но ведь он тоже, этот взбесившийся майор, требовал от Самсонова, от штаба фронта наступать и только наступать на Берлин. А теперь взялся защищать Самсонова, изволите видеть. С больной головы на здоровую решил переложить ответственность за его неудачи. А сами-то, сами с Жоффром и Френчем как воюют? Сами удирают от бошей так, что пятки сверкают, и уже решили объявить Париж открытым городом.
Так, по крайней мере, думали Орановский и Леонтьев и понимающе переглядывались меж собой и ждали, что скажет главнокомандующий, Жилинский, уязвленный и униженный еще более, чем они.
Но Жилинский молчал. Жилинский был вполне согласен со всем, что Нокс сказал об Орановском, Леонтьеве, и особенно Ренненкампфе, и не был лишь согласен, что слова Нокса в равной мере относятся к нему, главнокомандующему фронтом. Более того: он даже внутренне надеялся, что Нокс наверное же теперь поможет ему избавиться от такого болтливого начальника штаба и от такого спесивого генерал-квартирмейстера, в первую очередь ответственных за положение дел у Самсонова, ибо именно они верили Ренненкампфу безоговорочно, а Леонтьев вообще ведет себя в штабе как представитель Ренненкампфа, всячески защищая его и выгораживая, а не как генерал-квартирмейстер, обязанный первым заставить Ренненкампфа действовать так, как ему приказано.
Единственно, о чем сейчас пожалел Жилинский, — так это о том, что не заменил Самсонова, хотя великий князь дал на это свое согласие. Но… «Но теперь поздно говорить об этом. Теперь следует сделать все, чтобы помочь Самсонову и его армии».
— Соберите военный совет. На нем и решим, что можно еще сделать, чтобы помочь второй армии. Капитана Орлова верните. Он мне будет нужен.
Он умолчал о том, что Орлов, коему великий князь благоволит, может пригодиться на случай, если потребуется отправлять в ставку реляцию о неудачах второй армии. Орлов — объективный младший офицер — был у Ренненкампфа, все видел своими глазами и слышал своими ушами и конечно же еще и устно распишет великому князю все как по нотам, тем более что за словом в карман не полезет, а великий князь на него не наорет: донской офицер все же.
На этом ночное бдение, первое за все время, было закончено, и все отправились спать.
…И не уснул Жилинский, тоже впервые с начала войны, а ходил по комнатам своей квартиры, переставлял с места на место то стулья с высоченными спинками, то бутылки с сельтерской, или чернильницу на столе поправлял, или папки трогал бледной рукой и все думал, думал: как отвратить беду от Самсонова, от себя и что предпринять: приказать ли Благовещенскому и Душкевичу контратаковать противника, пока Мартос и Клюев отведут свои корпуса в безопасное место, к границе, или сейчас же приказать Самсонову начать общий отход? Но что скажет великий князь, царь и как к этому отнесутся союзники? Ведь все так уверены, что дела в Восточной Пруссии идут превосходно, и вдруг…
И позвонил в штаб дежурному офицеру.
— Барановичи… К телефону — генерала Янушкевича. Ко мне на квартиру, — приказал он негромко и даже робко, будто Янушкевич спал рядом и он не хотел испугать его своим грубым голосом.
Связь со ставкой была хорошая, и вскоре у телефона послышался заспанный голос Янушкевича:
— Что случилось, Яков Григорьевич, что вы звоните в такую рань? Вернее — в такую глухую ночь?
— Армия Самсонова находится в критическом состоянии, ваше превосходительство, — официально ответил Жилинский. — Обнажен и левый ее фланг, Артамонов отступил даже за Сольдау. Я полагаю, что ее следует отвести к границе, дабы не дать противнику окружить Мартоса и Клюева, а приведя в порядок, снова перейти в наступление. Но я решил прежде испросить у вас надлежащего волеизъявления.
Янушкевич некоторое время молчал, потом спросил немного растерянно:
— Вы прямо огорошили меня, Яков Григорьевич. Армия Самсонова все время наступала… Неужели нет выхода и надо отступать? А что делает Ренненкампф?
— Прохлаждается. Идет черепашьим шагом, по пять верст в сутки. Вместо сорока — пятидесяти, как ходит противник.
Янушкевич опять помолчал и спросил:
— Его высочество будет поражен, и, право, я не знаю, как ему и докладывать, когда он соблаговолит встать… А нельзя ли заставить все же Благовещенского и Артамонова контратаковать противника и тем дать Ренненкампфу время для выхода в тыл Гинденбургу? По нашим расчетам, он, Гинденбург, должен уже быть за Вислой. Как же случилось, что он атаковал Самсонова еще и на левом его фланге? Его высочество убежден, что вы исправили положение на правом фланге, а у вас еще и левый прорван.
Теперь Жилинский некоторое время помолчал, не зная, как лучше ответить, но потом решился сказать:
— Ренненкампф оказался лжецом, когда утверждал, что противник бежит. И подлецом в одно и то же время. Исказил мою директиву об обложении Кенигсберга двумя корпусами с тем, чтобы остальные два двинуть в преследование противника, и задержал всю армию до поры, видите ли, когда обложение Кенигсберга будет закончено. Его надобно устранить от командования армией, о чем я тоже покорнейше прошу доложить его высочеству. Майор Нокс вообще требует судить всех: Артамонова, Благовещенского, Ренненкампфа. Он поехал к вам.
Янушкевич замялся и неуверенно сказал:
— Гм. Но вы же знаете, Яков Григорьевич, что подобное зависит не только от его высочества. Ренненкампф — герой Гумбинена, и его удаление с поста Петербург не поймет. Но я непременно доложу, как только его высочество начнет занятия в штабе… А вы что решили?
— Утром решим на военном совете. Полагаю, что ваш совет контратаковать противника можно попытаться исполнить. Если ничего не получится, я прикажу Самсонову начать общее отступление. Но он без моего позволения снял аппарат прямой связи, так что придется отдавать приказ по искровому телеграфу, что противник перехватит определенно.
И Янушкевич умолк надолго, так что Жилинский уже подумал, что разговор прекратился, но тут Янушкевич сказал:
— О вашем постановлении на военном совете поставьте меня в известность немедленно. После того, как я доложу его высочеству о нашем разговоре, я тоже немедленно вам позвоню. Ах, Яков Григорьевич, какие ужасные вещи вы сообщили! — горестно воскликнул он, и разговор прекратился.
Жилинский сел за стол, обнял голову руками и так остался сидеть.
И не сомкнул глаз всю ночь.
Янушкевич утром не звонил. И к прямому проводу не вызывал. И Жилинский дал последние директивы Ренненкампфу и непосредственно шестому и первому корпусам второй армии: немедленно перейти в наступление самое энергичное и решительное.
Утром приехал Родзянко и с ходу, едва войдя в кабинет Жилинского, густым голосом спросил:
— У вас — несчастье, Яков Григорьевич? С Самсоновым? Я тут с раннего утра, вас поджидал, а вы, оказывается, ушли домой перед рассветом… Здравствуйте и, если не секрет, расскажите, что происходит. Ваши штабные чины ходят как в воду опущенные.