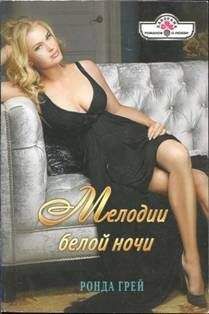Александр Иванов - Не жди, когда уснут боги
— Дашенька, — голос у него мягкий и в глазах доброта разлита, — может, гостям с морозца поднесем по махонькой? Оно хорошо, когда с морозца: кровь взыграет, а душа песню запросит.
— Еще чего! — вскинулась было, потом смилостивилась. — Ладно, плесни, только из той, крайней. Заодно и мы побалуемся.
Старушка проворно нарезала хлеб, сало, огурцы, расставляла граненые стопки; возвратился откуда-то Степан, бережно неся перед собой трехлитровую бутыль; а Даша как уселась на лавку, так и не пошевелилась, безучастно наблюдала за возникшей суетой. Чувствовалось, в доме она хозяйка. Пока все идет нормально, можно оставаться как бы в стороне, гостьей за собственным столом, но вот старушка замешкалась — и тогда:
— Не мельтеши, мама! Давай вилки и садись.
Опрокинув стопку, я стал жадно хватать ртом воздух, словно пытаясь затушить пожар внутри. Ну и крепость! Еще чуть-чуть из глаз искры посыпались бы, Женька пригубила едва, закашлялась, щеки маками зацвели.
— Эх, мамзели зеленые! — Даша выпила красиво, ни одна жилка не дрогнула на ее гладком лице. Стукнула стопкой по столу: — Повторяй!
Степан развеселился, обмакнул палец в коричневатую жидкость, чиркнул спичкой. Палец вспыхнул, как маленький факел.
— Во! — Степан торжествовал. — Сам гоню, сам пью, к государству претензий не имею. Хоть до семи вечера, хоть после — моя воля. Дешево и сердито. — Осекся, когда Даша выпила очередную стопку и даже не притронулась к закуске. Речь его потекла торопливо, неровно, как вода под уклон да по камешкам. — Много ли нам надо? Рядка три бутылочек в подвале выстроил — и все удовольствие. Черпай, пока здоровье позволяет. А здоровье, оно как, сегодня есть, а завтра нет. Крышка. Бери тогда ружье и пали в эти самые бутылки.
Он говорил, а сам, видимо, ожидал какой-то неприятности, чего-то обидного, злого, и напрягался, и прятался за слова, старался оттянуть неминуемую развязку.
Мы с Женькой тоже как-то внутренне попритихли, томимые неясными предчувствиями, переглядывались: откуда исходит гнетущая тревога, которая придавливала, изнуряла Степана, от которой и нам, в общем-то, становилось не по себе. Странное дело: семья как семья, застолье как застолье, и не врывались мы сюда в момент какой-нибудь размолвки, наоборот, все при нас мирно сошлись и уселись вместе, но ощущение недовершенности, прерванности, временной приглушенности конфликта — как присыпанные золой угли: до первого ветерка — такое ощущение крепко и ухватисто жило в этом доме, создавая зыбкую неустойчивость настроения, пресекая всяческую возможность возникновения распахнуто сильных порывов, вынуждая того же Степана процеживать каждое слово сквозь марлю настороженности, неусыпной боязни и слепого отчаяния.
— Господи, господи, да чем же мы не угодили тебе, да за что ты на нас гневишься? — ни с того ни с сего запричитала чуть слышно старушка едва шевелящимися узкими бескровными губами и все прикладывала к глазам застиранную цветную тряпочку.
Даша сидела прямо, скрестив руки под пышной грудью, отрешенная и соблазнительная. Она уже не была юной, находилась в той поре, когда буйная жестокая страсть перестает таиться, время от времени вырывается наружу, сжигая в своем неистовом пламени всякое сопротивление. Выпитое завораживало ее, уводило в далекие туманы, и в мерцании золотистых, как спелые зерна, зрачков отражались настойчивые Дашины грезы.
Что спугнуло ее видения, резко повернув к яви — бормотанье старушки, преданно-скорбный взгляд Степана или наш унылый вид? Только она с неожиданной мягкостью выгнула по-кошачьи спину, уперлась локтями в край стола, устало повела головой то в одну, то в другую сторону.
— Оставьте своего господа в покое, — начала Даша ровным, почти просительным голосом, в котором угадывалась издевка. — Из-за вас ему, бедненькому, икается, наверное. А чем он поможет теперь Степану? Мама, выроди меня обратно?
— Когда ты уймешься? Хоть бы людей постыдилась…
— Вот еще! Пусть слушают, пусть знают, кому как тут живется. Нас от этого не убудет, а им, авось, сгодится… Поженились или так, гуляете? — спросила она, глядя на меня в упор раскаленным золотом зрачков.
Смутившись, я не сразу нашелся, что ответить.
— Понятно, — заключила она. — Мы вот со Степаном тоже гуляем. Только под одной крышей. От замужества ведь что, детей положено иметь, а у нас, как у каких-нибудь дохлых европейцев, кукиш с маслом. Ни шума, ни хлопот — благодать! Не зря бездетные нынче в моде, — кривая усмешка дернула, перекосила на миг яйцо, показав, каким оно может быть разяще неприятным, отталкивающим.
Старушка заелозила на стуле, опять принялась бормотать:
— Да что ж ты, господи, смотришь как она выворачивается наизнанку? Неужели на таких бесстыжих нет у тебя никакого удержу?
И тут Дашу понесло, потащило с неукротимой и безрассудной напористостью, словно плотина прорвалась. Чего только не наговорила она маленькой, сжавшейся от ее раскаленных зрачков свекрови! Получалось, что нет на свете более хитрого, коварного и злого человека, чем эта старушка. Интригует, сети расставляет, паутину плетет, сидит и поджидает очередную жертву. Вот и ее, Дашину, молодую жизнь загубила. Умаслила, устлала дороженьку лестью да посулами, а сама сына порченого подсунула. И нечего тут петлять, всем ясно, что он порченый. Да, да, да! — захочет и на весь поселок будет кричать, раз это правда. Она была на медицинском обследовании, у нее все в порядке, хоть десяток может родить, а муж, которого ей бабка навязала…
Степан сидел расслабленный, с опущенными обмякшими плечами, понурый, но успокоившийся: ожидание грозы обычно страшней самой грозы. Зная крутой нрав жены, побаиваясь ее, он даже не пытался перечить. Но мне почему-то казалось, что за безразличной расслабленностью, обезволенностью его кроется оскорбленная, поскуливающая душа, обреченная на скрытное, нелегальное существование. И недоумевает, задыхается, и трепещет душа в бренных сумерках Степанова тела, а ему лучше бы совсем без нее: тревог и забот поменее.
Когда Даша выговорилась, выкричалась и ушла спать, когда следом за ней, недовольно бормоча, отправилась старушка и увела с собой Женю, я спросил Степана, хотя, быть может, и не следовало бы: зачем он это терпит, почему позволяет жене издеваться над ним, над его матерью и ничего не предпринимает, чтобы прекратить ее горячечные нападки?
Степан изумился, громко потянул носом.
— А что же делать? — и уставился мимо меня.
— Да мало ли что!.. — Играть в открытую я не решался. — Во всяком случае, всему бывает предел.
— Ну, даешь! — Лицо Степана поплыло, заколебалось в нервном смехе. — Она ведь женщина — первый класс. Или не приметил?
— Приметить-то приметил, — согласился я, стараясь погасить бунт против его рабской терпимости. Но мне это не удалось. — Подумаешь, первый класс! В городе таких знаешь сколько? Но ведь не в том суть, с кем жить, а — как жить. Еще и мать…
— Сама виновата, старая, — перебил Степан. — И чего было влезать? Видит, распалилась Дашенька, посидела б тихонечко или покивала согласно, так нет же, на бурчанье потянуло. Вот и схлопотала слегка. Хорошо еще, что посуда в ход не пошла. Ей, Дашеньке, противиться нельзя.
Степан выбрался из-за стола, отряхнул рубаху от хлебных крошек, прошелся по кухне, будто собираясь с мыслями; казалось, он хочет оправдаться не столько передо мной, случайным гостем, сколько перед самим собой; заговорил с какой-то печальной снисходительностью:
— Загляни хоть в природу, хоть в политику: кто-то должен обязательно кому-то уступить, кто-то находится сверху, а кто-то снизу. Равенство, оно когда? Когда одинаково сильные или одинаково слабые. А в остальном равенства, как там ни крути, быть не может, в лучшем случае видимость создается, сказка, благостный мираж. Понятно, кому хочется признавать себя слабым? Оттого крупные драчки и происходят. А я ничего, признаю. Надо один раз сломать гордыню, хлебнуть смирения, дальше все пойдет как по маслицу. Дашеньке труднее моего. Распаляется, желания ее мутят, мчит на меня, глазищами сверкает, а потом осаживает на всем скаку, потому как я в себя ухожу, прячусь поглубже, словно в окопе, вроде я есть и вроде меня нет. Вот и рассуди: разве окопного человека переедешь? Сколько она напрягается, сколько сил тратит — мне ж все нипочем. Ее жалко. То детишек подавай, то еще чего… Кипит, ярится, отдыха не имеет. Детишки пошли б, возможно, и побереглась бы сама. Да их вот нет. Эхма! — Узкие, как у матери, но не такие бескровные губы Степана двигались в тени большого носа. Видимо, говорил он обычно много, но чаще мысленно, про себя, теперь же мои опрометчивые вопросы позволили ему распространяться вслух. Стоя предо мной, он упивался своим благородством. — Я ей всю власть в доме отдал. Пожалуйста — командуй, пожалуйста — куражься, нет для нее отказа. Кто из мужиков разорится на это? Никто! Всяк сам властвовать норовит. Потому Дашенька и держится за меня…