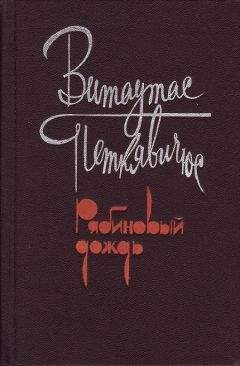Константин Федин - Города и годы
Люди кучились по перекресткам, захлестнутые ливнем, точно птицы, подбитые ветром, точно овцы, оглушенные громом.
Открывали и закрывали зонты. Расстегивали и застегивали воротники. Снимали и надевали шляпы,
Но не двигались: ждали молнии.
И когда она шмыгала воровато над крышами, люди впивались глазами в лоскутки телеграмм, расклеенные на стенах, чтобы еще и еще раз ослепнуть от слова:
Эрцгерцог!Потом срывались с места, захлестнутые, подбитые, оглушенные грозой и ливнем, и опять примыкали к жавшейся на перекрестке толпе, и опять ослеплялись словом:
Эрцгерцог!И опять не двигались: ждали молнии.
Так каждый: в каждом возрасте, во всяком звании, из всякой общественной среды.
Потому что с этой ночи, ослепившей словом:
Эрцгерцог!старой гармонии не стало, и — смятенные — люди кинулись искать новую.
Мокрый до последней нитки, Андрей пробирался знакомыми окраинами к дому, где жил Курт. Под взрывами ветра умирали и воскресали газовые фонари. Андрей зажег спичку, отыскал кнопку звонка. Минуты через три сверху соскользнул на улицу слабый голос: [110]
— Это вы, герр Ван?
Андрей отбежал от двери на середину мостовой.
— Простите за беспокойство, фрау Майер. Разве Курта нет дома?
— Ах, герр Старцов! Добрый вечер. Мы думали, что герр Ван с вами. Он ушел уже давно. У него был какой-то офицер.
— Офицер?
— Молодой офицер.
— И Курт ушел с ним?
— Нет. Офицер ушел раньше.
— А где же Курт?
— Право, вы меня пугаете, герр Старцов. Откуда мне знать, где он пропадает. Он так стукнул дверью, когда уходил, что у меня на кухне запрыгала посуда.
— Простите за беспокойство, фрау Майер. Покойной ночи!
— Доброй ночи, герр Старцов!
Белое пятно на мансарде исчезло, окно закрылось. Андрей постоял несколько мгновений неподвижно. Потом произнес негромко:
— Офицер.
Потом медленно пошел назад, по окраинам, которые привели его к жилищу Курта.
Дома он разделся, растер себе грудь, спину, живот, ноги сухим полотенцем, переменил белье, открыл окна, закутался и уснул сразу, точно сорвался в какой-то провал.
В этом провале он отчетливо увидел:
В беспредельном, может быть снежном, просторе висит человеческая голова. Кругом все тихо и недвижно. Вдруг из пустоты возникает студент в корпорантской фуражечке на [111] гладком розоватом затылке. Карие глаза головы открыты, зрачки устремлены на студента.
— Adieu, Frau Mama! — говорит голова и подмигивает студенту. Тогда студент отбегает назад, расставляет пошире ноги и заносит руку. Откуда у него тряпичные мячи? Первый удар мимо. Второй тоже. Мячи несутся на полсантиметра справа и слева от головы. Голова переводит взор на Андрея и открывает синие губы, чтобы что-то сказать. Но на мгновение ее заслоняет собою мяч, и она покачивается и трясется, точно в раздумье, потом вдруг опрокидывается на затылок и летит куда-то вниз. Ив тот же миг исчезает снежная беспредельность, и перед Андреем вырастает грандиозная каменная лестница, и голова скатывается по ней с хронометрической размеренностью, гулко ударяясь о каждую ступень поочередно, то лицом, то затылком:
бумм—бомм
бумм—бомм...
Но взгляд ее неотрывно упирается в глаза Андрея, хотя должны же, должны быть моменты, когда Андрей не может видеть этого взгляда, не может!
бумм—бомм
бумм—бомм...
Андрей вскочил с постели. Весь он покрылся потом, и рот его был связан какой-то соленой сухостью. Он сжал голову руками. Прислушался. Звонкие удары гулко раздавались на улице. Андрей бросился к окну, приподнял занавеску.
В свежем послегрозовом рассвете по мостовой цокали бесчисленные подковы. В воздухе, [112] на остриях кавалерийских пик, развевались двухцветные флажки. Вылощенные темно-зеленые униформы, набитые хорошими широкогрудыми телами, чопорились и подпрыгивали в седлах. По чернолаковым квадратам, завершавшим каски, бегали неуверенные тени утреннего неба.
Впереди кавалерии, на вороных конях, продвигался, зажженный горячей медью труб, полковой оркестр. Большой барабан сотрясал покой спавших улиц:
бумм—бомм...
бумм—бомм...
Андрей опустился на подоконник и закрыл ладонями лицо.
Люди вспомнили, что на свете существуют короли.
Их совершенно реальное бытие вдруг стало очевидно после того, как ослепительное слово
Эрцгерцог!ворвалось в гармонию, сломало ритмы, исказило размеры, обезобразило тембры.
Оказалось, что короли живут не только на страницах журналов, обозрений и по витринам фотографов. Оказалось, что короли не только путешествуют, переезжают из зимних резиденций в летние, улыбаются на портретах и ежегодно празднуют тезоименитства. Оказалось, что короли не только в истории и географии, то есть — в сущности — на школьных скамейках. Нет!
Короли жили в действительности, по-настоящему. У королей в самом деле были черепа, относившиеся к пулям точно так же, как черепа их [113] подданных. И короли настолько хорошо кричали, что голоса их были слышны в очень отдаленных от резиденций местностях.
И, боже, какое множество обнаружилось вдруг королей! С каждым днем и с каждым часом они выползали из своих резиденций, как тараканы из щелей. В конце концов они запорошили собою все уголки газет, и пришло время положить предел этому царственному беспорядку.
Довольно слушать разноголосицу, довольно вдумываться в неразбериху, довольно портить глаза на всех этих нотах, меморандумах, волеизъявлениях и манифестах, довольно!
Разве еще не ясно, куда зовет вас чувство долга?
Слушайтесь этого чувства — чувства долга! Только его, ничего больше!
Оно приведет вас на улицу, в толпу, и толпа вскинет вас на свои плечи, как волна вскидывает щепку на свой гребень. И вы устремитесь к дому сербского торгового консула, и чувство долга выдавит из ваших внутренностей вопль негодования. И потом вы будете бить палкой по запертой парадной консульства, пока к вам не подойдет шуцман и не объяснит, что вы ошибочно думаете, будто бы порядок дозволяет портить двери. И тогда чувство долга повлечет вас по улицам к дому итальянского торгового консула, и вы будете петь национальный гимн и кричать «Vivat Italia!», пока к вам снова не подойдет шуцман и не посоветует пойти домой, потому что наступает полицейский час и шум нужно прекратить. И хотя чувство долга и охрипшее горло умерят ваш пыл, вы все-таки будете кричать, и негодовать, и гневаться, потому что — ужели жизнь зазвучит прежней гармонией после освежающей грозы? ужель не суждено [114] испытать прекрасной долгожданной перемены? ужель — опять благословенный, тяжкий, гармоничный мир? О, никогда! Ни за что! Перемены, перемены, перемены!
Мы требуем, мы хотим, мы жаждем перемены!
Тогда слушайтесь чувства долга.
Толпа ярилась у парадной сербского торгового консула, и в толпе были Андрей и Курт. Но они не видали друг друга. Потому что, если принять толпу, заключенную между сторон улицы, за прямоугольник, то Андрей находился в одном конце диагонали, а Курт — в другом. И этот другой конец диагонали приходился как раз у парадной консульства, а первый — там, где стояли люди, не проникшиеся чувством долга или — от природы — лишенные его.
Механика народных толп на городских улицах имеет свои законы, и эти законы, конечно, не могут быть нарушены столь внешними явлениями, как человеческая дружба.
И когда толпа повернулась и пошла назад, к дому итальянского торгового консула, — Андрей очутился впереди шествия и возглавлял его до первого проулка.
Там он юркнул за угол и — по окраинам — бросился к Курту.
Узнав от фрау Майер, что ее жилец не был дома с утра, он прошел к нему в комнату, разыскал на столе клочок бумаги и попавшимся под руку коричневым пастельным карандашом жирно написал:
[115]
Назавтра солнце взошло двумя с половиной минутами позже, чем в предыдущий день. В остальном рассвет не был сколько-нибудь замечателен.
Как всегда, около семи часов утра на улицах появились велосипедисты с мешками и корзинами на горбах. Шурша шинами, велосипеды катились под окнами Курта вправо и влево.
Те, что катились вправо, несли на своих седлах рабочих Иоганна Фабера.
Как всегда, рабочие составили велосипеды в обширном гараже, в стойках, и поднялись в гардеробную. Там каждый открыл свой шкафик — с отдельным замочком под номером и фамилией рабочего, — снял с себя пиджак, отстегнул манжеты, целлулоидный воротник с манишкой и, повесив все это в шкаф, облачился в холщовую блузу.