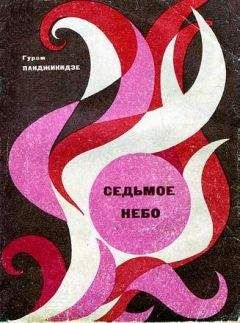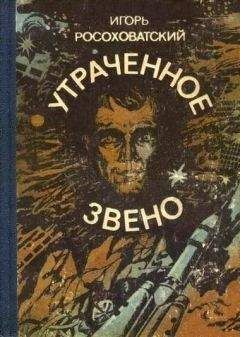Харий Галинь - Повести писателей Латвии
Вымывшись, я вошел в кухню, где, уронив голову на стол, сладко спала Дзидра. Я опустился перед ней на колени, потому что хотел на вечные времена втиснуть в клетки своей памяти каждую ее черточку, даже крохотную родинку на правом виске, рядом с маленькой голубоватой жилкой. Как помочь ей, как заслонить от студеных ветров жизни, как принять на себя все порывы бури? Как? Она прошлой ночью все-таки плакала. Ладно, бог даст день, бог даст и пищу. Никогда не следует ломать голову прежде времени, а то не на что будет надеть шапку. «Никогда не откладывай на завтра того, что можно не делать и послезавтра», — так говаривал, вроде бы, старый янки Бенджамин Франклин, тот самый, что, будучи президентом, все же изобрел громоотвод. А может, он изобрел его как раз потому, что стал президентом?
Я притронулся к ее бедру. Никакого отклика. Встал, погладил по голове, поцеловал в губы — то же самое. Ну и мертвый сон! Тогда я основательно встряхнул ее за плечо. Она широко раскрыла глаза и какое-то время смотрела, ничего не понимая и, кажется, даже не узнавая меня. Потом глубоко вздохнула.
— Уже выкупался?
— Да.
— Тогда я пойду.
— Может быть, не стоит, Дзидрушка, если ты так устала.
— Я — устала! С чего ты взял? Просто задремала на секундочку. Почему не позвал потереть спину?
— Ну, иди, мойся. Только не запирайся, чтобы я смог потереть спину тебе.
Дзидра странно глянула на меня и, ни слова больше не говоря, неверными шагами направилась в ванную.
«Ну и выносливо же крохотное создание», — подумал я, чуть ли не изумляясь. Я как-никак употреблял всякие допинги — самогон, чефирь, а она даже черного кофе выпила лишь глоток и сказала, что невкусно. Что она, из дамасской стали выкована?
Я успел выкурить три папиросы, пока из ванной наконец не донеслось:
— Иди!
Господи, ну и тоща же она! О таких говорят: кандидат на чахотку. Дотронуться страшно.
Однако, когда я начал тереть ей спину, прозвучал протестующий голос:
— Да посильнее же! Или у тебя сил хватает только на чай да самогон?
Пришлось потереть посильнее. Дзидра корчилась, но не произнесла ни единого жалобного слова.
В нижней части спины было заметно множество давно заживших, но глубоких рубцов. Когда я прикоснулся к ним мочалкой, Дзидра сама объяснила:
— Память о милой тетушке. Дядя в тот раз ее саму чуть не отхлестал, только мои двоюродные помешали. Пока драли меня, они только хныкали, а когда он хотел отстегать ее, подняли такой рев, словно их режут. А я в тот раз и не была виновата. Мне из-за них досталось.
Я ничего не сказал. Да и что тут было говорить?
Когда Дзидра вытерлась, я не дал ей даже одеться, в чем мать родила поднял на руки, отнес на кровать, укрыл:
— Спи. В ванной я приберу.
— Постой, — окликнула она.
Я замер.
— Подойди поближе.
Я подошел.
Ее руки обвились вокруг моей шеи, губы целовали — в щеки, нос, лоб.
— Меня сегодня в первый раз носили на руках! Меня — на руках!
Я резко высвободился.
— Спи давай. Я сейчас.
Когда минут через десять я вернулся, Дзидра уже спала сном невинного ребенка.
Я пристроился рядом с нею так, чтобы дышать сквозь ее волосы, — она даже голову успела вымыть, — и тоже уснул спокойным, без кошмаров, сном.
Кровать, наверное, самое неромантическое место на свете: никаких эмоций, только сон, сон, сон.
Когда я проснулся, Дзидры рядом не было. Я приподнялся и не успел еще дотянуться до курева, как вошла она — одетая, улыбающаяся, сияющая.
— Я сварила суп. Поедим сейчас или обождем хозяйку?
Я вышел на кухню, где вкусно пахло только что сваренным овощным супом.
Наверное, правы старики, когда говорят, что у молодой девушки — птичий сон. И когда только она все успела? Только что спала, как убитая, — и вот уже суп готов. Были бы это еще макароны или что-нибудь в этом роде — раз-два, и готово, — а тут овощной суп, с которым столько возни.
Я положил руку Дзидре на плечо.
— Если ты не очень голодна, лучше обождем хозяйку. Неудобно как-то. Все же первый день…
— Да я что! Кухарка от одного запаха сыта. Я спокойно могу подождать. А что будем делать?
— Иди сюда. Посидим вместе, послушаем музыку.
Я увел Дзидру в комнату, где попытался извлечь из «Даугавы» что-нибудь жизнерадостное, веселое, современное. Но мы просидели рядом не более пяти минут. Потом Дзидра вскочила.
— Надо найти тряпку. У хозяйки, наверное, не было времени прибраться. Музыку можно слушать и за работой.
И Дзидра запорхала по комнате, как мотылек. А я задумался об ее шрамах — не только доступных взгляду, тех, на спине. Я пытался представить, сколько таких шрамов осталось в ее душе и в памяти.
В таком положении и застала нас Гундега.
— Ну прямо супружеская пара! — воскликнула она. — Муж сидит и слушает музыку, жена трудится. Спасибо, милая, мне в последнее время и правда некогда было воевать с пылью. Вечерами не хватает сил даже газету прочитать, а ведь я еще учусь заочно. Тоже студентка, — и в ее голосе прозвучала нескрываемая гордость. — А теперь быстро за стол — и в сушилку. Еще ночку-другую придется поработать. Вот приедете на следующий год — может быть, уже пустим новую, автоматизированную. Не то что это старье! — Она стала вынимать из кошелки кирпичики черного хлеба и банки консервов. — Ничего лучшего в нашем магазине не нашлось, а съездить на ферму за молоком и яйцами не хватило времени. Не обессудьте.
— Не обессудьте и вы, — ответила Дзидра, ставя перед ней тарелку супа, от которого шел пар. Другую тарелку она подала мне, затем поставила на стол мясо в маленькой тарелочке и лишь после этого налила себе. Она села напротив меня, Гундега оказалась посередине.
— Когда только ты успела? — удивилась Гундега.
— Увидела в кладовке говядину и решила сварить суп, — ответила Дзидра, но глаза ее при этом почему-то напоминали глаза испуганного, загнанного звереныша.
— Дай бог твоим родителям работящую дочку, а мужу — хорошую жену, — продекламировала, словно стихи, Гундега, но, бросив взгляд на помрачневшую вдруг Дзидру, закончила совсем другим тоном, просто и сердечно: — От всей души спасибо! Право, не стоило так стараться, хотя такого вкусного супа я уже давно не пробовала. Самой сготовить некогда, а в колхозе только одна столовка, и не всегда выходит по дороге. Да и готовят там не очень-то вкусно.
— А ты что делал? — после паузы повернулась она ко мне.
И мне, и Дзидре она говорила «ты», хотя на брудершафт мы с нею не пили. Я на это не обижался — как-никак она была постарше, да и бригадир к тому же. Надеюсь, что и Дзидру тоже это не задевало, хотя временами она становилась высокомерной, как племянница самого дьявола.
— Занимался самым трудным, — без улыбки ответил я.
Две пары глаз обратились на меня.
— Чем же, если не секрет?
— Думал.
Дзидра улыбнулась, а Гундега рассмеялась, но как-то неестественно: громко и резко.
— И что же вы надумали? — вдруг перешла она на «вы».
— Пока ничего. Я, видите ли, думаю, как найти палку об одном конце. У всех палок два конца, отруби один — все равно остаются два. А мне нужна палка с одним концом.
— Ну, думай на здоровье, — снова перешла Гундега на «ты».
Мы долго ели молча, так, что за ушами трещало, потому что варево действительно оказалось вкусным. Только сейчас Гундега заметила на столе мясо и разрезала его пополам.
— Вам всю ночь работать, а я только подброшу вас до сушилки, поставлю мотоцикл и буду свободна.
Я взял свою часть, а Дзидра, покачав головой, разрезала свою еще раз пополам и половину положила на тарелку Гундеги.
Когда мы поели, хозяйка снова пригласила нас в комнату и открыла буфет, одна из полок которого пестрела разноцветными этикетками.
— Может, посошок перед работой? — предложила она и взяла стакан. — Что налить?
Я хотел уже ткнуть пальцем в бутылку «советского джина», но ощутил прикосновение Дзидры к своему локтю и покачал головой.
— Спасибо, только лучше не надо. Ночью может отказать мотор.
Я вспомнил, как минувшей ночью чефирьный кейф боролся во мне с сивушным хмелем.
— Вот чайку — с удовольствием, он дает силу.
— Ради бога! — Гундега недовольно, как мне показалось, захлопнула дверцу буфета, и мы вернулись на кухню, где она включила электрический чайник. Дзидра принялась мыть посуду.
— Оставь, милая. Я сама, — запротестовала Гундега, но так неуверенно, что Дзидра не сочла нужным даже ответить.
— Утвердили план мелиорации, — ни с того ни с сего начала вдруг Гундега. — Начнут с моей бригады. Так выгоднее и мелиораторам, и колхозу. Тогда и в самое сырое лето комбайны смогут добраться до любого закоулка. Сейчас на многих полях застревают.
Помолчала и заговорила опять совсем о другом.