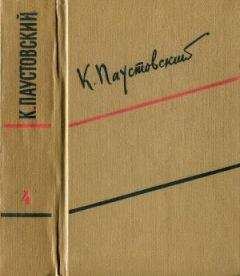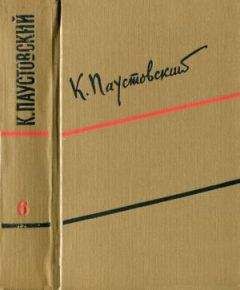Константин Паустовский - Том 5. Рассказы, сказки, литературные портреты
– Вот и Суглинки! – сказала женщина. Дорога шла вниз к реке, между вековых осокорей.
– Зайдите в избу, выпейте молока на дорогу, – попросила женщина. – У меня своей избы нету. Я живу у подруги – у Варвары. Мы с ней всю жизнь вместе.
Мы вошли в Суглинки – чистую и пустынную деревню, вымощенную торцами. Фуксии цвели за окнами. Далеко на току гудел барабан молотилки. Черная река огибала деревню дугой.
У порога избы на нас залаял белый пес с отрубленным хвостом. «Тузик!» – предостерегающе крикнул из избы мужской голос, и пес полез под крыльцо, где лежала примятая солома.
В избе за перегородкой кто-то возился, должно быть одевался. С потолка на длинной нитке свешивался шар из бумаги. Рыжий котенок с водянистыми глазами играл этим шаром, как футбольным мячом. Около печки шумел самовар.
– Ты, Феня? – спросил из-за перегородки молодой мужской голос. – А мать пошла на реку белье полоскать. Мы уж заждались. Думали, совсем тебя засосала Москва.
– Это Миша, Варварин сын, – шепотом сказала Феня. – Капитан артиллерии. Герой Советского Союза. Он ранен был тяжело, теперь поправляется.
Феня улыбнулась. Глаза у нее были серые, но когда она улыбалась, они темнели, поблескивали синевой.
Феня сняла платок, поправила русые волосы и ушла в погреб за молоком. Из-за перегородки вышел высокий человек в темных очках, в военном кителе. Он приветливо улыбнулся и назвал себя: «Капитан Рябинин». Золотая звезда блестела на кителе, маленькая звезда и две нашивки за тяжелые ранения. Этот золотой блеск здесь, в чистой и небольшой избе, был как-то очень кстати – он вязался со спокойным осенним утром, с ясностью неба, со стоявшей окрест тишиной.
Когда мы выпили молоко и начали прощаться, капитан вызвался нас проводить до поворота на Бобыли но.
– Только не взыщите, – сказал он, – я быстро ходить не могу. Не из-за ноги, а из-за глаз. Я недавне, собственно говоря, прозрел. Очень сложное было ранение глаз, и очень хитрая была операция. Полгода лежал в темноте, как в погребе. А теперь все вижу, но пока еще несколько туманно, конечно. Пойдемте!
По дороге капитан рассказал нам историю своей слепоты.
– Вот вы – пишущие люди, – сказал капитан, – но то, что я вам расскажу, описать, очевидно, никак невозможно. Не потому, конечно, что эта тема для вас непосильная, а потому, что я это вам толком объяснить не смогу. Для этого нужно, должно быть, особое дарование. А я им не обладаю.
– Какая-нибудь сложная глазная операция? – спросил мой спутник.
– Нет. Это – своим порядком. Это как раз объяснить сравнительно легко. А тут все дело в Фене… Замечательная женщина наша Феня. Не на своем она, конечно, пути. Не тем делом занята.
– А что же ей следовало бы делать? – спросил я.
– Не знаю, – замялся капитан. – Не могу определить ее природное назначение. Что-то вроде вашего писательского дела. Во всяком случае, ее способности находятся где-то очень близко от него, можно сказать, совсем рядом.
– Любопытно! – заметил мой спутник.
– Еще бы! – согласился капитан. – Суть в том, что, когда я лежал в госпитале под Москвой, тетя Феня, конечно, ко мне приехала. Она у нас всеобщая сердобольница. А на вид – строгая женщина, никогда своей жалости не обнаруживает. Одинокая – живет не для себя, для других. Я тогда, сами представляете, был в трудном состоянии. Весь мир для меня пропал, и, как нарочно, мучили меня зрительные воспоминания. «Неужели, думал, никогда я не увижу ни солнца, ни воды, ни туч на небе, ни лиц любимых, человеческих?» Бывало, закричит кукушка за окном, а я сожму кулаки и ругаюсь, – кукушке завидовал. Сидит она на ветке, видит каждую песчинку на земле, а я, как крот, земля для меня – подземелье. И вот приехала Феня. Был я тогда неспокойный, капризный и все приставал: «Расскажи, Феня, что делается кругом на земле. Скучно мне очень». А она все боялась, как бы доктора не забранили ее, да и мне как бы от ее рассказов не сделалось тяжелее. Но все-таки я ее умолил. И начала она мне рассказывать. Обо всем. Глядит за окно и рассказывает все, что видит. «Вот, мол, за окнами озеро, и над ним от солнца стелется теплый туман. И в тумане этом идет белый буксирный пароход, светится издали медью и стеклами, тащит за собой баржи с березовыми дровами. По дровам бегает черная косматая собачонка, лает на чаек. На барже – избушка. На окнах в той избушке вазоны с геранью. И герань пышно цветет. Босая девушка в красном платье качает насосом воду из трюма. Вода льется за борт, а уклейки играют около падающей воды, ловят червяков, что недавно только мирно жили в трюме, питались березовой трухой. Девушка качает воду, поет: „И кто его знает – на что намекает, на что намекает, на что намекает“. Проплыла эта избушка на барже по великой Руси до самой Москвы». – «А еще что видишь?» – спрашиваю я Феню. «Я вижу, говорит, как от озера по потолку твоей комнаты бегут зайчики. Все догоняют друг друга и догнать не поспевают. Потолок сосновый, хорошо струганный, и то тут, то там вытекает из него смола. Мальчишкой ты эту смолу, должно быть, жевал?» – «Нет, говорю, я вишневую смолу жевал». – «Вишневая слаще, – говорит Феня. – Я завтра тебе принесу вишневой смолы». Так вот она мне рассказывала целые дни. И я всему верил. Очень успокаивался. И даже был счастлив. Жаль, что не было рядом никого, кто бы мог записать ее рассказы. Получилась бы книга. Только вот не знаю, как эту книгу следовало бы назвать.
– «Фенины сказки», – сказал мой спутник.
– Нет, это не сказки, – уверенно возразил капитан. – Сильнее надо назвать. И правдивее.
– Ну, тогда «Фенино счастье».
– Тоже неверно. Не Фенино, а мое счастье, – снова возразил капитан. – Хотя, пожалуй, и Фенино, – добавил он. – Она была счастлива оттого, что доставила мне хоть немного успокоения.
Я вспомнил слова Фени о том, что она неученая и потому ей трудно доставлять людям счастье, рассказал об этом капитану и спросил:
– Как вы понимаете эти Фенины слова?
– Да тут, по-моему, и понимать нечего, – ответил капитан. – Все ясно.
– А вот нам не ясно.
– Видите ли, – сказал капитан, – каждый понимает счастье по-своему. У каждого оно свое. Но есть вещи, которые одинаково у всех людей вызывают подъем и чувство счастья.
– Какие?
– Ну хотя бы музыка. Или великолепные здания. Или картины. Я перед Нестеровым в Третьяковской галерее могу стоять часами. Вот об этом счастье Феня и говорила. Для того чтобы давать его людям, мало таланта. Нужны еще большие познания.
– А по-моему, – сказал мой спутник, – хватит иной раз и одного таланта. И Феня это доказала в случае с вами.
– Да, пожалуй, – ответил неуверенно капитан и вдруг улыбнулся. – Да, пожалуй, – повторил он уже увереннее. – Одно только жаль, что все Фенины рассказы дальше Суглинок не идут, никто их не знает.
Капитан остановился, показал на серую крышу в лощине среди гущи ив.
– Видите, – сказал он, – крыша, а около нее, кажется, краснеет бузина. Это и есть бобылинская мельница. Я, может быть, к вечеру тоже туда приду, посижу с вами на реке. Там места удивительные!
Мы простились с капитаном и начали спускаться к реке среди зарослей бузины. Внизу уже светилась вода, шумела около мельницы, и из деревни тянуло дымком соломы – осенним русским дымком.
1944
Молитва мадам Бовэ
Все называли ее «мадам», даже водовоз Федор. По утрам он привозил на подмосковную дачу, где жила мадам, воду в большой зеленой бочке.
Мадам выходила из дому, чтобы помочь Федору перелить воду из бочки в кадушку, и выносила кусок хлеба старой водовозной кляче. Сонная кляча тотчас просыпалась, осторожно брала хлеб из руки у мадам теплыми губами, долго его жевала и кивала мадам головой.
– О-о! – смеялась мадам. – Она меня благодарит, эта старая лошадь.
Мадам не знала, что ее, Жанну Бовэ, кое-кто из соседей тоже называл «старой клячей».
Мадам была стара, но ходила и говорила так быстро и у нее были такие румяные щеки, что это обманывало окружающих, и ей давали меньше лет, чем было на самом деле.
Уже давно мадам жила в России, в чужих семьях, учила детей французскому языку, читала им нараспев басни Лафонтена, водила гулять и прививала хорошие манеры. В конце концов мадам почти забыла Нормандию, где когда-то росла голенастой девчонкой.
Когда немцы обошли с севера линию Мажино и вторглись во Францию, – когда французская армия, преданная генералами, сдалась, и пал Париж, – мадам не сказала ни слова. В это утро она только не вышла к чаю.
Дети – две девочки – вполголоса рассказывали родителям, что видели, как мадам стояла на коленях в своей комнате перед окном, выходившим в лес, и плакала.
В лесу кричали кукушки. Лес был густой. В его глубине на крик кукушек отзывалось эхо.
– Теперь она никогда не перестанет плакать, – сказала отцу старшая девочка с двумя выгоревшими от солнца косами.