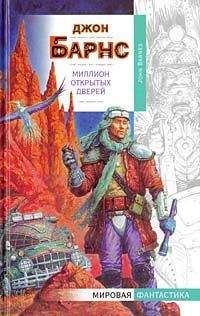Константин Локотков - Верность
Где-то около завода крутился отец. Руки Семена дрожали и глаза делались зелеными, когда он встречал его. Он ненавидел все, что напоминало отца. Он ненавидел свое лицо.
«Вылитый!» — как проклятие, звучало в ушах.
А тут подошли первые смутные волнения юности. У сельской учительницы была дочь, ее звали Надя. Они были школьными товарищами. Она уехала раньше, чем узнала о его несчастье.
Ее не было, и он тем сильнее страдал от болезни, прозванной любовью.
Семену все чаще начинало казаться, что мир непрочен и жесток. Окружающие не интересовались его горем. Занятые своими делами, они думали, что всем доступны, и Бойцову в том числе, — по выбору, по охоте, сам только получше хлопочи, — любые жизненные пути и радости. Они как бы не замечали Семена, а он думал, что его презирали. Он с детства привык считать, что люди обязаны помогать друг другу. Читал об этом в книгах, слышал от учителей. И первое испытание свалило Семена с ног, — он не был готов к испытаниям. Он часто теперь размышлял, заслуживают ли люди уважения? Неужели они все нехорошие? Ведь он такой, какой и был, — почему же все, кто его окружал, так равнодушны и презрительно-высокомерны? Разве он не видел? Разве он не читал в глазах товарищей: «ты не наш», — а в глазах девушек, кроме того, — «ты безобразен»?
И он был весь в себе и в прошлом. Только в прошлом — далеком, чистом, когда он в пионерском галстуке ходил по земле, и люди все были ласковы. Когда пел с друзьями:
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.
Или задорную пионерскую «Картошку»:
Тот не знает наслажденья,
Кто картошки не едал.
Или когда давал Торжественное обещание перед строем:
«Я, юный пионер, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю…»
Отец неожиданно куда-то уехал, и Семен больше его не видел. Мать встала с постели, ходила с палочкой. Она часто заглядывала в контору, в комнату за стеной, где сидел директор, и они подолгу беседовали там.
После одного такого разговора директор вызвал Семена.
— Садись, Бойцов. Ты, что же это, я слышал, учиться задумал? Ловко, брат! А кто же у меня работать будет?
— Я не хочу учиться, — угрюмо сказал Семен.
— Не хочешь? Позволь, значит, меня неправильно информировали?
— Может быть.
— Да ты сядь…
Семен отметил брошенный исподлобья взгляд директора, его широкое, со шрамом лицо, жесткий рот.
— Значит, не хочешь учиться… А по-моему, врешь. Хочешь! Только почему-то не говоришь. Почему? — Директор ждет ответа, хмурится. — Отчима твоего я уважал. Настоящий коммунист. И ты, по-моему, неплохой парень. Только смешной какой-то: учиться не хочешь! Тебя что смущает?
— Ничего не смущает. Не хочу просто, — с досадой сказал Семен и отвернулся. Что ему, директору, надо? К чему он затеял этот разговор?
Директор с минуту молчал и вдруг сказал с твердой и недоброй ноткой в голосе.
— Что ты, как девочка капризная? Уважать надо себя.
Семен побледнел, выпрямился:
— Уважать? Уважать, говорите?
Он смотрел на директора странно расширенными глазами, лицо выражало борьбу — хотел что-то сказать и не мог, только шевелил губами.
Директор встревоженно приподнялся со стула.
— Ну? Ты что? — И утвердительно, с вызовом: — Да, уважать! Ну?
— Уважать… — что-то вроде презрительной усмешки мелькну по в лице Семена, он качнул головой. — Ну… хорошо! Уважать себя… ладно! А людей, по-вашему, тоже надо уважать?
— Людей? А как же? Обязательно. Без этого нельзя жить.
— Ага, обязательно! — Семен встрепенулся, поднял голос: — Обязательно! А если они меня сами не уважают? Если вижу кругом… только презрение?
— Презрение? Ты что мелешь? Кто тебя презирает?
— Все, все! — Семен говорил быстро и гневно, торопливо застегивая пуговицы пиджака. — Все кругом… Будто я хуже других… прокаженный какой-то… А я виноват? Я его не знал. Мой настоящий отец — коммунист, а этот… расстрелять надо, а его выпустили… И еще говорят: я скрывал его… Не понимают ничего, не знают ничего, а говорят.
На глазах выступили слезы, крупные, гневные. Директор встал, подошел к Семену, положил ему руку на плечо.
— Успокойся, — мягко сказал он. — Ну что ты, в самом деле…
— А что? А что? — недоумевающе проговорил Семен и вдруг провел рукой по лицу, резким движением стер слезы. — Черт его знает!..
— Ну, вот так. Хорошо. Ты сядь. Садись, садись. Ах, Семен, Семен! Какой ты все еще мальчик! Что придумал! Кто тебя презирает? Если были случаи — скажи мне, мы такое пропишем!.. Да не верю я этому, не верю…
Директор долго еще говорил, но Семен плохо слушал его. Он уже раскаивался, что открыл свою обиду. Зачем? Что от этого изменится? Никто не убедит Семена, что товарищи его не презирают.
— Поезжай, учись. Найдешь себе новых товарищей…
— Я не думаю учиться. Буду работать.
— Ну, тогда вот что. Тебе известно, что я директор?
— Знаю.
— Как директор, приказываю: учиться. Если мало слова, издам приказ письменный. Вот тебе деньги. Будешь получать каждый месяц от завода. И не дури. Оставь свою позу. Никого ты этим не удивишь. Глупый ты парень, вот что… Разве так надо жить? Разве ты не знаешь свое право? То-то! И потом, тебя ведь воспитал коммунист. Учись, приноси пользу государству… Чего тебе здесь костяшками стучать? В автобиографии укажешь все. Ничего не скрывай… А кто будет колоть глаза — дерись. Тебе известно, как советская власть на это смотрит? Ну, то-то! Вот и учись для советской власти. И не дури. Давай руку.
Сжал ладонь и крепко потряс, смягчив жесткий рот улыбкой.
— Может, еще главным инженером ко мне вернешься. Вспомним тогда, хо-хо!
Семен уехал в город и поступил сначала в десятилетку, а лотом перешел на курсы подготовки в институт.
Вот почему, когда он в первый раз сел на студенческую скамью и раскрыл тетрадь, а профессор Трунов начал своим выразительным басом: «Ну-с, товарищи… Поговорим о вашей будущей специальности», в горле Семена сделалось солоно, и он едва не заплакал.
Жизнь институтская входила в свою колею, но Семен все еще чувствовал себя одиноким. Он не делал попыток сблизиться с товарищами. Кому он нужен? Каждый без труда может найти себе друга почище Бойцова, ведь вокруг столько хороших, боевых, настоящих ребят. А в Бойцове они не нуждаются. Хорошо, что не колют молчаливым вопросом, плохо скрытым презрительным любопытством — и, на том спасибо! Что Бойцов может дать товарищам! Им и без него хорошо. Семену оставалось только завидовать им.
Да, он страстно завидовал им — всем, у кого чистое прошлое и кто смотрел на жизнь спокойными, уверенными глазами.
Он завидовал Соловьеву — его стройной, высокой фигуре, красивому лицу, свободным жестам, красноречию. Встречая его в коридоре, Семен терялся, не зная, куда деть руки. Он ни на минуту не сомневался в достоинствах Соловьева. Дружба Виктора и Нади воспринималась им как естественный, не требующий объяснения факт.
Семен особенно много думал об этом, потому что Виктор был в какой-то мере его соперником. Смешно! Бойцов и Виктор — соперники. Курам на смех! Если бы ему даже могла прийти мысль, что Надя предпочла его Виктору, он не поверил бы себе.
Хотя уже много лет прошло с тех пор, как Надя уехала из деревни, он по-прежнему страдал. И она была все-таки его Надя! Он шел в институт — и разговаривал с нею. Он слушал лекции — и советовался с нею. Он лелеял ее, и оберегал, и гордился ею, как можно гордиться только девушкой, которая лучше всех на свете.
Но при встрече с нею всегда отводил глаза.
Надя кланялась с замкнутым лицом, а Женя — она постоянно была рядом с нею — спрашивала с участием:
— Бойцов, у тебя что, зубы болят?
— Нет, — медленно, заикаясь, говорил он и краснел от злости и досады.
— Надо лечиться, — говорила девушка.
Надя дергала ее за руку, и Женя, уходя, недоуменно оглядывалась на Бойцова. Она ничего не знала, Женя Струнникова. Семен был уверен, что и Надя ничего не знает. Так лучше. Пусть никто ничего не знает.
Истинную радость доставляло ему только учение. Он забывал все на свете, сидя на лекциях или в читальном зале над книгами и конспектами. Это был заманчивый и чудесный мир откровений — наука!
К успехам своим он относился спокойно и совсем растерялся, когда однажды профессор Трунов похвалил его на собрании:
— Очень серьезный студент товарищ Бойцов.
Но кто-то бросил сзади тихо и недовольно:
— Голый отличник.
Семену стало нехорошо. «Голый отличник», то есть замкнулся в одной учебе и ничего больше не хочет делать для института, Но что он мог сделать для института? Куда ему! Он будет учиться, и пусть оставят его в покое.
Он завидовал и Купрееву. В его внимательных серых глазах, твердом подбородке и упрямых губах чувствовалось спокойное сознание своего достоинства. Купреев часто останавливал на Бойцове взгляд. Семену было неловко: помнилось еще первое посещение института, когда Купреев укорил его в невежливости.