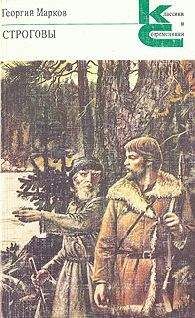Феоктист Березовский - Бабьи тропы
— Да-а… Дело может обернуться худо… Для баб, конечно.
— Бабы что! — перебил кузнеца Никита. — Как хочешь считай меня, Василий Мартьяныч, а, по-моему, бабы все-таки повинны… Да, да! Оно, конечно… галились над ними мужики… Это верно. Ну, все ж таки… Нельзя же так! — Никита помолчал и уже твердо и решительно заявил: — Только тут дело не в одних бабах, Василий Мартьяныч. Ведь у многих баб безвинные дети останутся… сироты! Вот в чем дело, Василий Мартьяныч. Вот о чем горюнюсь я. Понял? Конечно, и баб жалко…
— Правильные твои слова, Никита, — сказал кузнец и тяжело вздохнул. — Детская душа — ангельская душа! А без матери… неизвестно, что выйдет из ребенка.
Оба замолчали.
Кузнец достал из-под нагрудника деревянную табакерку, открыл ее и протянул старику. Оба зачерпнули из табакерки щепотью по хорошей порции табака и, раздумывая, стали потягивать через нос табачную пыль. Наконец, кузнец спросил старика:
— Значит, по-твоему, выходит, что староста не поверил твоим словам? В город собрался ехать?
Никита еще раз чихнул.
— Вот видишь! — вновь изумился он. — А я ведь опять загадал. И опять чихнул. Не хотел чихать, крепился. И все-таки чихнул. Значит, не поверил мне Гаврила Терентьич… Не поверил! — Старик сокрушенно покачал головой.
— Да это ты от табаку чихнул, — перебил кузнец бродягу. — Табак у меня крепкий.
— А почему же я не чихал, пока не загадал? А как загадал, так сразу и чихнул. А ну-ка, скажи?
— Не знаю, — признался кузнец.
Опять оба задумались. Долго молчали. Потом кузнец не торопясь поднялся с лавки. Еще раз тяжело вздохнул. И тихо молвил:
— Что же делать-то, Никита?
Бродяга лукаво усмехнулся:
— Ты ничего не надумал? А я надумал, Василий Мартьяныч. Надумал!
— А ну… что ты надумал… говори.
— А вот слушай. Иди-ка ты, Василий Мартьяныч, сам к старосте. Тебе ведь ото всех на деревне почет. И Гаврила Терентьич уважение к тебе имеет. Вот ты и потолкуй с ним насчет бабьего наговора. Для прилику сначала заведи какой-нибудь другой разговор. А подведи все к мору на деревне, к бабьему заговору. — Никита быстро, по-молодому, поднялся на ноги и громко произнес: — Ну, да мне тебя не учить, Василии Мартьяныч. Свой вон какой котел на плечах носишь. Ступай сейчас же к Гавриле Терентьичу. А то как бы не собрался он да не уехал в город.
— Заделья нет мне идти-то к нему, — неуверенно сказал кузнец.
— А ты найди, — настаивал Никита. — Подумай!..
Кутаясь в свою рваную шубенку, Никита сказал:
— Прощенья просим, Василий Мартьяныч… До свиданьица! Иди-ка, паря. Иди! Надо бабам и особливо детишкам помочь.
— А грех-то какой мы с тобой берем на душу, Никита, а? — молвил кузнец, посмеиваясь.
— Ладно, — махнул рукой бродяга и ворчливо добавил: — Ужо, когда преставимся… все расскажем! Там, на небе-то, поди, разберутся — что к чему…
— Значит, Никита, — продолжал посмеиваться кузнец, — блины познаются по вкусу, а грехи — по искусу! Так, что ли?
— Конечно, так, — ответил бродяга, направляясь к двери. — Бог-то, поди, тоже не без головы… разберется! Ну, прощай!
Никита ушел.
Глава 16
Когда кузнец вошел в просторную кухню старосты, завешанную сбруей, его обдало теплыми и густыми запахами кислого молока, жирных щей и сбруи. Кузнец неторопливо снял сначала свои рукавицы, потом меховую шапку татарского покроя, затем не спеша повернулся налево, к медным образам, висевшим в углу, под потолком, трижды перекрестился и поклонился образам. Только после этого он повернулся к старосте, который сидел на лавке около большого кухонного стола и чинил хомут. Поклонившись, приветствовал его:
— Бог на помощь, Гаврила Терентьич!
— Милости просим, Василий Мартьяныч, — столь же степенно ответил староста, откладывая в сторону хомут. — Легок ты на помине! Проходи. Садись.
Кузнец отряхнул с валенок остатки снега и обтер их о половичок. Прошел к лавке.
— Говоришь, вспоминал меня, Гаврила Терентьич? — сказал он, усаживаясь рядом со старостой. — Может, работенка есть какая? Кошевку либо чего-нибудь другое не надо ли починить?
— Нет, Василий Мартьяныч, — ответил староста, — кузнечной работы пока у меня не предвидится. С бабой своей вспоминали тебя.
— А по какому случаю вспоминали, Гаврила Терентьич? — спросил кузнец, кладя рядом с собой рукавицы и шапку и настораживаясь.
Староста крякнул, как будто поперхнулся, а затем прокашлялся и только после того с запинкой заговорил:
— Вспоминали мы тебя, Василий Мартьяныч, вот по каким делам… Видишь, Василий Мартьяныч, сколько горя теперь на деревне? Мрет народ! Вот и на меня господь-батюшка прогневался. — Староста тяжело вздохнул: — Сына решился я… царство ему небесное…
И он истово перекрестился.
Кузнец тоже вздохнул.
— Что поделаешь, Гаврила Терентьич. На то воля божья!
— Конечно, божья… Как говорится, без бога не до порога. Ну все ж таки…
— А что ты, Гаврила Терентьич, поделаешь? Его воля… господа… Без его воли, говорят, волос не падает с головы.
— Да уж это точно, — согласился староста. — Конечно… Может, все это и верно… А люди толкуют всяко. Одни говорят — поветрие это… мор… А другие, дескать, бабы наши деревенские причинны к этому делу… Слово такое знают они — заклятье. Вот и разберись! Люди умирают, Василий Мартьяныч! А я ведь староста… Могут с меня спросить… в случае чего…
— Кто с тебя спросит? — задумчиво проговорил кузнец. — Ты не бог, Гаврила Терентьич, за всеми не углядишь… Особливо, ежели бабы знают такое слово…
Староста сразу насторожился. Спросил кузнеца:
— А ты, Василий Мартьяныч, тоже слыхал, насчет бабьего-то наговора?
— Слыхал. Не скрою, Гаврила Терентьич, слыхал, — ответил кузнец.
— А как думаешь, Василий Мартьяныч, правда это?
— Все может быть… Слыхал я про такие дела и раньше. Еще от родителей своих слыхал. А теперь вот и у нас в деревне случилось…
Староста побледнел. С трудом выговорил:
— Что же делать, Василий Мартьяныч? Присоветуй! Сам я хотел идти к тебе.
— А я что могу присоветовать? Ты староста… ты и мозгуй.
Помолчав, кузнец добавил:
— Со стариками посоветуйся.
Староста махнул рукой:
— Что они, старики-то, присоветуют! Старики толкуют, что надо ехать за попом. А я надумал было в город ехать… по начальству.
Кузнец заговорил твердо, решительно:
— Я так считаю, Гаврила Терентьич: поп тут не поможет, а городское начальство засудит баб… даже с удовольствием. А ты подумай-ка, сколько на твои плечи хлопот да забот свалится, а? Ведь все сироты на твои плечи падут! Подумай, Гаврила Терентьич…
— Ну, а что делать-то, Василий Мартьяныч? — почти взмолился староста. — Нельзя же оставить такое дело без последствиев! Сам ты посуди!
— Смотри, Гаврила Терентьич, — сказал кузнец, беря с лавки шапку и рукавицы. — Дело твое… Ты — староста… тебе виднее.
— Ума не приложу, — вздохнул староста.
Помолчали.
Кузнец поднялся с лавки, не спеша надел шапку и рукавицы. Староста тоже поднялся на ноги. Попридержал кузнеца за рукав:
— Постой.
Напряженно подумав, он спросил кузнеца:
— Ну, а вот к примеру… ежели бы ты, Василий Мартьяныч, был на моем месте… Что бы ты сделал в таком разе?
Кузнец, не задумываясь, ответил:
— Да уж как-нибудь разобрался бы… сам… ежели я староста. Стариков собрал бы… Небось, как-нибудь миром-то решили бы… сами… Прощения просим, Гаврила Терентьич! — вдруг сказал он и вышел.
Глава 17
Длинными зимними вечерами, когда крепко засыпала свекровь, Петровна поднималась с кровати, падала на колени перед образами и тихо шептала:
— Владычица, матушка!.. Прости!.. Помилуй!.. Заступница!.. Когда же кончится мука моя?!
Чувствовала непереносимую боль в груди, чувствовала, что обливается сердце кровью, но покорно стояла перед образами. Ждала. И снова шептала:
— Матушка, пресвятая богородица… Скорбящая божья матерь!.. Неопалимая купина! Когда же… когда кончится моя мука?
Но не было ответа. Не приходило успокоение.
Поднималась Петровна с полу. Снова валилась на кровать. Прислушивалась к шуршанию тараканов, к тихому храпу свекрови. Тосковала и томилась. Иногда вздрагивала — резкое биение под сердцем чувствовала. Горела всем телом. Радовалась в душе: «Рожу… Выращу… Только бы в него… в Степу…»
Перед глазами мелькали белые Степановы кудри — в кольцо, его голубые глаза, мелкие и белые зубы. Мысли летели к волости.
Иногда по неделе мучилась, места не находила. Камень на сердце давил. Кровоточащая боль в груди изводила вконец. И снова молилась Петровна по целым часам. Снова просила: