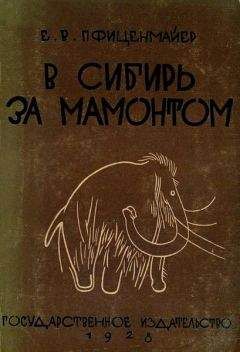Виктор Смирнов - Тревожный месяц вересень
Кряжистый большеголовый Крот орудовал у наковальни, а помогала ему, раздувая мехи и придерживая клещами заготовки, жена — чумазое и пришибленное, ничем не приметное существо. Она всегда ходила за Кротом как тень. У кузнеца было двое сыновей-подростков, и они могли бы стать ему лучшими помощниками, чем жена, но подались по наущению отца в мешочники; в степные, разоренные и насквозь оголодавшие районы они возили картошку, а оттуда — соль. Сам Крот никогда не называл сыновей мешочниками, а говорил с гордостью, важностью: «Чумаки».
Кузнец, увидев меня в дверях, продолжал стучать небольшим молотком, отбивая остывшую уже косу. Жена, согнувшись, хлопотала у горна. В кузне было полутемно. Светились лишь маленькое окошко под потолком да горн. Я подождал немного, но у меня не было желания церемониться с Кротом. Я хорошо помнил, как обломок кирпича, который он запустил, когда мы разбегались от свалки металлолома, ободрал мне ухо и сломал толстую ольховую ветку. Многое можно простить человеку, но, если он ненавидит детей, нечего думать, что в нем можно еще обнаружить какие-то скрытые достоинства.
Он бы долго клепал свою косу, если бы я не подошел и не отодвинул ее прикладом карабина. Тогда он прервал работу.
— А, Капелюх, — сказал он мне. — У меня очи стали слабоваты от горячей работы… Устраивайся. — Он указал на какой-то лемех, усесться на который мог бы только человек с железным задом.
— Спасибо, сам устраивайся.
Я подвинул к себе табуреточку, стоящую в углу кузни, у небольшого стола, на котором лежала кожура от свиной колбасы. Не такой ли колбасой потчевали Малясов в тот день, когда Штебленок ушел в район?
Кузнец посмотрел на лемех.
— Выйдем, — сказал он. — Курно тут!
Я обратил внимание, что среди всяких непременных принадлежностей кузни тяжелых топоров для рубки металла, зубил, прошивней, бородков, среди заготовок и поковок находятся и небольшие клепаные самодельные тигли, и на одном из них видны полосы припекшегося свинца.
— Чего надо? — спросил Крот, прислонясь к коновязи.
Как бы он встретил полицая, если бы тот вот так же, как и я, с винтовкой за плечом, явился к нему, когда здесь хозяйничали фрицы? Небось он, Крот, призадумался бы, прежде чем открыть рот, о целости собственных ребер. С властью, которая призвана защищать тебя, можно позволить себе грубость, она сойдет с рук. И я снова подумал о Законе, который притаился в толстых книгах и, казалось, был неизвестен мне, но, видно, все же впитался с детства и диктовал свою волю. Я никак не мог позволить себе использовать преимущество, которое давало оружие и власть, чтобы унизить человека, даже если тот держался нагло. Особенно трудового человека… хотя, впрочем, разве Закон может давать кому-либо преимущества?
Пчела, залетевшая на пепелище, где цвели обманутые теплом бабьего лета одуванчики, принялась кружить у самого носа кузнеца, раздумывая: ужалить или нет? Но Крот не обращал на нее внимания. Кожа у него была покрыта таким слоем окалины и сажи, что о нее можно было сломать иглу-«цыганку». не то что пчелиное жало. Черный жесткий брезентовый фартук прикрывал Крота как щит. Не подступиться было к этому мужику.
— Ты поставляешь свинец и медь на гончарню? — спросил я.
— Я, — сказал Крот. — И окалину они берут.
— Не задаром, конечно, — сказал я.
К делу это не имело отношения, но пчела улетела, и я пожалел, что она все-таки не попыталась ужалить. Крот пожал плечами. Конечно же он брал с колхоза и за окалину. Хотя кузня числилась за колхозом, как и гончарный заводик. Крот, пользуясь положением единственного кузнеца, не упустил бы своего. У таких полушка в щели не заваляется.
— Из пуль свинец льешь? — спросил я. — Медь — из поясков?
Он кивнул. Из кузни доносились хрип и взвизгивание работающих мехов.
— Не раздувай, не раздувай зря, дура! — крикнул Крот, приоткрыв дверь. И сердито повернулся ко мне: — Еще чего?
— Где ты все это берешь?
— А кому какое дело? — спросил он, переминаясь с ноги на ногу.
— Есть дело!
— «Ястребки» у нас долго не держатся, — сказал кузнец. — Я бы, Капелюх, на твоем месте отказался от этой работы. Паек маленький, а риск большой. Можно посунуться, как собака с соломы.
Он хотел разозлить меня, чтоб я взвился, а он бы наблюдал из-за своего брезентового щита. Ведь я был тем мальчишкой, который со всех ног убегал с Панского пепелища, завидев прожженный фартук. И отчего это в книгах кузнецы всегда благородные люди? Наверно, писателям кажется, что если человек силен и стучит молотом по наковальне, то он правильный человек, а вот кладбищенский сторож или парикмахер — это копеечник. Наверно, существует обманная красота профессий. У нас в дивизии повар был — честнейший и бескорыстнейший парень, бездомному цуцику наливал гуще, чем себе, а все ребята под конец раздачи заглядывали в котел, чтобы обнаружить на дне лучшие куски мяса, потому что повару положено скрывать привар для себя и для начальства.
— Слушай, Крот, — сказал я. — Я смогу тебе много неприятностей сделать. Ты мне поверь!
То, что он старался разозлить меня, настораживало.
Крот присматривался ко мне. Да, это я драпал с пепелища, но с тех пор прошло много времени, а главное, два с половиной последних года я провел на передовой, у Дубова. «Языки», которых мы притаскивали с той стороны, понимали Дубова без слов. Перед ним они почему-то всегда изливали душу, стоило ему только посмотреть. Увы, таких высот я не достиг. Но кое-чему научился. И теперь Крот размышлял.
— Пользоваться военным добром не запрещено, — сказал он. — Все равно сгниет.
— Откуда таскаешь?
— Мне таскать некогда.
— Кто же тогда? И откуда? Он замялся.
— Отвечай!
— Гнат таскает…
— Брось брехать!
— Собаки брешут!.. Гнат, говорю… Я его научил. Чего тут сложного? Тут и кого хочешь выучишь.
Вот в чем было дело. Крот догадался, какую выгоду можно извлечь из деревенского дурачка. Гнат не понимал риска. Ему, наверно, даже нравилось отбивать зубилом желтые ободки со снарядных чушек. Он отыскивал снаряды с азартом, как грибник отыскивает боровики. Кусок хлеба или пара луковиц казались ему царским вознаграждением.
— И много надо для завода меди?
— Да нет… Може, фунта четыре в день.
Это значило, что Гнат отбивал ободки с полусотни снарядов. Взрывателей он, конечно, не отвинчивал. Действительно, дуракам — счастье.
— Пули он тоже приносит?
— Приносит. На глазуровку идет по десяти фунтов свинца.
Он становился разговорчивее, Крот: опасался, что я могу отобрать у него Гната. Конечно же дурачок приносил ему большой доход.
— Куда ходит Гнат? — спросил я.
— Мое какое дело, — кузнец пожал плечами.
— Куда он ходит?
— Думаю, в УР ходит, — сказал кузнец, подумав.
— Не боится?
— Чего ему бояться?
Итак, я узнал, кто регулярно бывает в УРе, но красивый план, что созрел, когда я шел к Кроту, рухнул. Конечно же, конечно же в УР без опаски может ходить лишь тот, кого бандиты хорошо знают… И — Гнат! Нет ничего удивительного, что нынешние временные хозяева УРа не трогают этого человека, он для них не опасен. Он не сможет никому объяснить, где был и кого видел. Сознание Гната как разбитое и распавшееся зеркало, оно отражает мир по частям, а вместе уже ничего не сложишь. Он смеется, когда впору плакать. Он вообще все время весел. Быть может, он живет в комнате смеха. До войны, вспомнилось, Гнат рассказывал односельчанам, как пьют пиво в Москве. Больше всего — после метро, конечно, — его поразил электрический насос, который разливает пиво в кружки. «Пш, пш, по!» — говорил Гнат, показывал пальцем, как льется струя, и непрерывно смеялся. Он запрокидывал голову и, шевеля кадыком, пил воображаемое пиво. Глухарчане любили послушать Гната. В село редко приезжала кинопередвижка, скучно было.
— Это я ему такое задание дал, чтобы поддержать дурака, — объяснил Крот поспешно. — Надо ж ему кормиться. Мне ж его жалко.
— Ну ладно, Крот, — сказал я. — Все ясно!
— Я тут своей старухе скажу, у меня «кровяночка» и… бутылка найдется, перекусим. — Он конечно же боялся, что потеряет дурачка Гната. — Как у нас говорят, лучшая рыба — свиная колбаса! — сказал Крот.
Самое удивительное, что лицо его по-прежнему оставалось непроницаемым и неподвижным. Он даже не делал попытки улыбнуться. Он просто подманивал меня с деловитостью рыбака, сыплющего в воду приваду.
— Слушай, Крот, — сказал я, — ты когда кабанчика забил?
— А чего? Что я засмалил?.. Ну, то ерунда.
Тот, кто забивал кабанчика, должен был составить об этом соответствующий акт, собрать щетину и сдать ее государству. Самовольный забой и осмаливанив кабанчика считались нарушением какого-то постановления. Но это никак не касалось «ястребков».