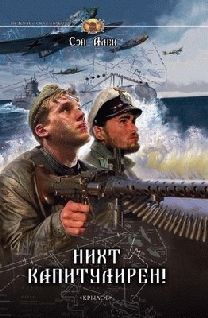Владимир Успенский - Неизвестные солдаты, кн.1, 2
– Постарайтесь обойтись без затасканных комплиментов. – Ольга отвернулась, чувствуя, что теряет уверенность. Немец, может и не сознавая того, затронул ее больное место. – Я люблю мужа, и этого достаточно.
– Это ваше дело. Вы первая заговорили об этом, и я ответил. Еще раз предлагаю сотрудничать с нами. Не торопитесь с отказом, подумайте о последствиях и для себя, и для ребенка. Мы пришли навсегда. Рано или поздно вам придется выбирать: за или против. А это равносильно выбору между жизнью и смертью… Вы можете сделать успехи, большие успехи. Вы нужны нам.
– Я все поняла. Можно идти? – поднялась Ольга.
– Вы будете думать?
– Сомневаюсь.
– Подождем. Я вызову вас через неделю. Обер-лейтенант надел фуражку, намереваясь проводить Дьяконскую.
– Пожалуйста сюда, – предложил он, коснувшись ее руки, и вдруг спросил совсем другим голосом, мягко и заискивающе: – Вы не откажетесь как-нибудь поужинать со мной?
Ольга вздрогнула. В глубине души она со страхом ожидала подобного предложения.
– Нет, нет, – торопливо заговорил Крумбах, заметивший ее испуг. – Вы не поняли меня, совсем не поняли… Просто поужинать. Здесь тупеешь, в этой глуши, а вы такой интересный собеседник. Нам найдется о чем поболтать. Неужели вы верите, что все немецкие офицеры – подлецы и разбойники?
– Может быть, и не все.
– Уверяю вас. В наших войсках негодяев не больше, чем в других армиях мира. Кстати, наша пропаганда тоже готова утверждать, что коммунисты едят детей, слегка поджарив их на костре.
– Вы слишком откровенны со мной, – сказала Ольга. – Смотрите, не ошибитесь.
– Нет, я достаточно хорошо знаю людей. Я даже знаю, что через неделю вы не согласитесь работать у нас. Скажите, я прав?
– На этот раз да.
– Но я буду беседовать с вами еще и еще, пока вы не убедитесь, что предложение выгодное. Пойдемте, машина ждет вас.
– Нет, я пешком.
– Боитесь скомпрометировать себя в глазах местного общества? – понимающе усмехнулся Крумбах. – Привыкайте чувствовать разницу между собой и этими… – Он не договорил, посмотрел на Ольгу и пожал плечами. – Впрочем, дело ваше. Я привык уважать желания дам.
На крыльцо комендатуры Ольга вышла одна. Морозный воздух обжег разгоряченные щеки. Она глубоко вздохнула и, придерживая полы пальто, побежала по узкой, протоптанной в сугробах тропинке. Из окна второго этажа, прижавшись лбами к стеклу, смотрели ей вслед обер-лейтенант Крумбах и унтер-офицер Леман.
– Какая женщина! – прищелкивал языком Леман. – Какие ноги! А грудь! А волосы! Такую птичку нельзя упустить, мой командир… Поручите мне обделать дельце, и у вас останутся приятные воспоминания.
– Куддель, ты говоришь чепуху.
– О, мой командир, уж не затронула ли красавица краешек вашего сердца?
– Не смейся, Куддель. Я имею определенные инструкции. И не ошибусь, старина, если буду утверждать, что эта женщина может сделать большую карьеру. Она одна из тех немногих, на кого наши рассчитывают опереться здесь. И она достаточно умна, чтобы быстро понять это.
– Все равно, командир, женщина остается женщиной. И если она пройдет через ваши руки, это нисколько не помешает ее карьере.
– Ты порядочная свинья, Куддель, – беззлобно ответил обер-лейтенант. – Ты мне надоел, можешь идти.
Он остался у окна один. Смотрел на пустынную улицу, испытывая такую грусть, какой у него не бывало давно. Да, эта женщина нравилась ему, привлекала ее красота, ее непривычного склада ум. Но Крумбах понимал, что она никогда не будет принадлежать ему. Она такая же сложная, упрямая, непонятная, как и все тут.
Страна завоевана, бой кончен. Что оставалось делать побежденным? Надо продолжать жить дальше, приспосабливаясь к новым порядкам, подчиняясь новой власти. Но эти люди, населявшие свои старые деревянные домишки, думали как-то иначе. Они отгородились от немцев глухой стеной. Они чего-то ждали, во что-то верили вопреки здравому смыслу. Их молчаливая, даже не проявлявшаяся активно вражда пугала и раздражала Крумбаха. Его власть здесь висела в воздухе, не имея опоры.
Даже такие, как эта женщина, которые, казалось, с радостью должны были встретить освобождение от притеснений большевиков, даже они не желали признавать немцев. Пятеро полицаев и старосты, которых удалось завербовать тут, не шли в счет. Это были люмпены, служившие ради денег и выгоды; они готовы были служить любому, кто заплатит больше.
* * *Казалось, новая власть установилась прочно. Уже вошло в привычку не появляться на улице после шести часов, уже не пугали жителей приказы, грозившие смертной казнью за нарушение установленных порядков. Каждое утро открывался магазин Кислицына. Началось восстановление электростанции. После Нового года немцы намеревались открыть кинотеатр.
Но с середины декабря из дома в дом поползли обнадеживающие слухи: на фронте фашистам приходится плохо. Поговаривали, что ночью пролетал за рекой наш самолет, сбросил листовки, в которых написано: Красная Армия наступает и бьет немцев.
В воскресенье Славка возвратился с базара веселый и возбужденный. Прямо с порога выпалил новость: оккупационных марок больше никто не берёт, зато опять пошли в ход советские деньги. Торговки принимают их даже охотней, чем вещи.
– Неужто так! – обрадовалась Марфа Ивановна. – Несладкая, значит, у немцев жизнь началась… Недаром Анисья рассказывала: по шаше целую ночь пораненных в машинах везли… Народ всегда все наперед знает.
– Мы вот тоже народ, – улыбнулась Ольга, глядя на раскрасневшуюся бабку. – А мы ничего не знаем.
– Зато людям известно, – упорствовала Марфа Ивановна. – Ты не спорь со мной, умная больно стала, – махнула она рукой. – Говоришь чего зря, а Николка-то вон опять в пеленках поплыл… Ну, иди ко мне, иди ко мне, гулюшка, ясочка ты моя, – наклонилась она над ребенком.
Николка пялил на нее глаза, морщил безбровое личико и пускал пузыри.
Ребенок был очень спокойный и не доставлял Ольге особых забот. Да и помощников у нее хоть отбавляй. У Антонины Николаевны проснулась вдруг к внуку ревнивая любовь. Возилась с ним все свободное время, утверждая, что он – вылитый Игорь, вылитый первенец ее, о котором изболело сердце. Подпускала Ольгу только кормить, а если бы могла, кормила бы, наверно, сама. У Марфы Ивановны тоже одна страсть – повозиться с Николкой. Даже Славка и тот с удовольствием качал люльку – интересно было смотреть на нового человека.
Ольга ходила на базар, гуляла с Людмилкой, расчищала снег во дворе. Она не испытывала того ревнивого чувства к своему сыну, какое бывает нередко у молодых матерей. Рождение ребенка вселило в нее уверенность. Движения стали более плавными, горделивой и неторопливой сделалась ее находка. Не угасая и не вспыхивая, ровно горела в ней спокойная радость: теперь всю жизнь будет с ней сын, частица ее самой, которую никто не сможет отнять у нее. Пусть тешатся с ним Антонина Николаевна и Марфа Ивановна, пусть играют, пеленают, купают, если это доставляет им удовольствие. Ей не жалко. Сын-то ведь ее и ничей больше.
За ребенка она не тревожилась, с ним все благополучно. Ольга думала о себе: что делать дальше? Вызов в комендатуру очень взволновал ее. Теперь немцы не оставят ее в покое. Она откажется два, три раза, а что потом? В конце концов они могут просто арестовать.
Трудно было решить самой, как поступить. Она написала записку Григорию Дмитриевичу, жившему в Стоялове. Через несколько дней Василиса принесла ответ.
Григорий Дмитриевич оросил не расстраиваться и не нервничать, чтобы не пропало молоко. Может быть, все еще обойдется. А если очень уж привяжутся фашисты, надо идти работать. Он верит Ольге. А свой человек в комендатуре всегда пригодится.
Ольга вновь обрела душевное равновесие. В ней совершенно исчезла робость перед немцами. Теперь, если это привяжется к ней, она могла потребовать, чтобы ее немедленно отвели в комендатуру. И она была уверена, что этот красноносый обер-лейтенант всегда вступится за нее.
В полдень на дороге, круто спускавшейся с горы, появилась черная, шевелящаяся лента. Она быстро приблизилась к городу, сползла в овраг. Через час вся главная улица была заполнена сотнями повозок. А с горы спускались все новые обозы и толпы пешком идущих солдат.
Это были совсем не те немцы, какие проходили через город два месяца назад.
Отощавшие лошади с трудом тащили громоздкие фуры на высоких колесах. Солдаты плелись без строя. В них не было самоуверенности и презрительного высокомерия. Крикливые, раздражительные, они напоминали злых осенних мух, но, странное дело, жители боялись их гораздо меньше, и солдаты чувствовали это. Они спешили, останавливались в домах ненадолго. И теперь уже не заходили по одному, а сразу по нескольку человек. Немцы не требовали больше «яйки» и «млеко», а просили только «клеб». Или вообще ничего не просили. Сами обшаривали полки, сами лазили в погреба. Если не находили ничего лучшего, варили картошку и ели ее, макая в соль.