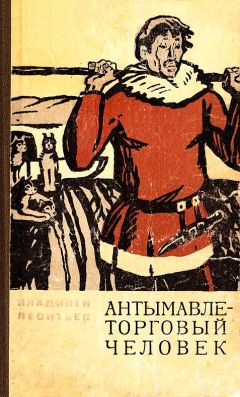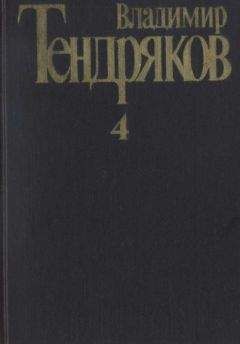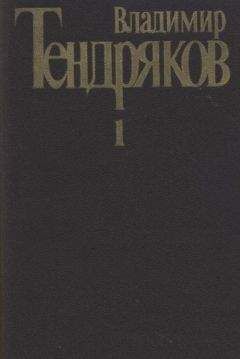Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести
— Получилось.
— Каким образом? Сгораю от любопытства.
— Забрались в первый век и прикончили там еще до того, как Христос стал Христом.
— Но поделитесь — как вам удалось попасть в первый век?.. И, простите, зачем вам такие хлопоты?
— Удалось общепринятым теперь способом — заложили в машину запрограммированную модель нужного нам отрезка истории…
— Модель истории?! — ужаснулся директор.
— Разумеется, схематически упрощенную. И он облегченно вздохнул:
— Уф! Задали загадочку… Теперь, кажется, понимаю. История, но без Христа. Хотелось узнать, как поведет она себя без этой фигуры… И что же получилось?
Я пожал плечами.
— То-то и оно, что ничего. Христос снова воскрес.
Директор ничуть не удивился, удовлетворенно кивнул седой головой.
— А вы ждали конвульсий, апокалипсических потрясений? И если выдающаяся личность столь влиятельна, то нельзя ли этим воспользоваться сделать героев истории инструментом доводки, направить жизнь в райские кущи? Правильно ли я вас понял Георгий Петрович?
Разве можно было объяснить накоротке, чего я ждал? Мне и теперь-то это далеко не совсем ясно.
— Вы очень догадливы, Константин Николаевич. — Что я еще мог ему ответить?
Он помолчал, оценивающе разглядывая меня, наконец заговорил:
— Увы, ваш результат подтверждает сермяжное правило — знай, сверчок, свой шесток. К великому сожалению. Георгий Петрович, мы не ведущие, а ведомые. И зачем вы так далеко забирались — аж в первый век? Пробрались бы поближе, в прошлый век в самый его конец, в лабораторию Анри Беккереля. Что вам стоило выкрасть у него ту самую роковую пластинку, засвеченную урановой солью! От нее же все началось — и раскупорка ядра, и взрыв над Хиросимой, и нынешние термоядерные кошмары. Не-ет, вы знали, что такой дешевый криминалистический трюк ничего не даст: не наткнись Беккерель на оказию, было бы то же самое — тот же уровень развитости ядерной физики, тот же запас бомб, мешающих нам спать. Эволюция, наверное, не устояла бы перед энтропией, если б не застраховала себя от случайностей… Христа убили — Христос возродился. Оч-чень, оч-чень интересный результат. Многозначительный!.. — Директор распрямился и сразу стал озабоченно деловит. — Однако я вас пригласил не для того, чтобы уличать. Каждый волен тешить себя чем хочет. Расчетец на вас имею. И заранее скажу: буду очень огорчен, если вы не пойдете мне навстречу.
Я насторожился — наконец-то увертюра окончена, началась ария.
— Выдвинули мы в свое время Калмыкова и надеялись — молодость не порок. А ведь слаб, мелко пашет. Вы не находите?..
Калмыков, тоже физик-теоретик, но не успевший еще проявить себя, был выдвинут ученым секретарем, должность ответственная и хлопотливая, где приходилось быть и дотошным канцеляристом.
— Не нахожу, Константин Николаевич, — ответил я. — Возможно, Калмыков и неглубоко пашет, но борозды не портит.
— С вашего чердачка, Георгий Петрович, не видно, а вот мне постоянно приходится подправлять огрехи… Да особенно и винить парня нельзя, трудно без имени, без авторитета, ординарному кандидату наук ладить с нашими мастодонтами. Тут нужен человек с опытом и заслугами.
Мне сразу открылось все. Вовсе не ради досужего любопытства расспрашивал директор о моих чердачных бдениях, ему позарез было нужно знать — насколько они серьезны. Я занимался не физикой — это его нисколько не смущало, при случае мог даже взять под покровительство. Сейчас все ждут открытий на стыке наук, заройся я в биологию или психологию — директор не стал бы взваливать на меня должностную ношу. Вдруг да пробьет брешь, куда Макар телят не гонял, — новое направление, новые перспективы, новое в активе института! Теперь вот выяснил — «каждый волен тешить себя чем хочет», — но за блажь денег не платят, изволь-ка заняться делом: Калмыков не пашет, паши ты! Я знал своего директора — намеченную дичь из поля зрения не выпустит.
Он поднялся.
— Я не требую, Георгий Петрович, немедленного ответа. Не к спеху. Взвесьте, обдумайте, выдвиньте мне условия, какие найдете нужными. Обещаю быть покладистым. Не сомневаюсь — мы с вами сработаемся.
Ох, мягко стелет, да жестко спать. И полное пренебрежение к тому, что влекло меня. Я тоже встал и пожал доброжелательно протянутую руку.
У дверей внезапно вызрел вопрос.
— Константин Николаевич, — обернулся я, — вот вы сказали: мы не ведущие, а ведомые… Не значит ли это, что в основе нашей деятельности лежит приспособляемость?
Он, не успевший опуститься за свой стол, задержался, задумался на секунду, ответил:
— Одно из свойств живого — способность адаптироваться. По чему мы должны быть исключением?
Поразительно: у моего легкомысленного сына оказался столь могучий сторонник.
4Дверь открыла Алевтина Ивановна, младшая из дочерей Ивана Трофимовича.
Я ее знал еще восьмилетней девочкой, худенькой, конопатой патлато-белесой, тихой, как мышка. Сейчас это плотная молодая женщина с жаркой шапкой крашенных хной волос, с тяжелой, решительной поступью.
— Вы опоздали, — осуждающе сказала она. — Этот уже у него.
— Кто — этот? — не понял я.
— Ну поп! Батюшка! Святой отец! — Она не могла сдержать своего раздражения.
— Аля, я ничего не понимаю.
— Не могла же я пускаться в объяснения по телефону — мол, мой отец совсем свихнулся, потребовал… как там у них называется?.. святое причастие или просто исповедь, уж не знаю… До сих пор в голове не укладывается: он, Иван Голенков, из тех, кого раньше называли гранитными, твердокаменными, сейчас вот испрашивает у попа прощение!
Алевтина Ивановна порывисто вынула платочек, но к глазам не поднесла, скомкала его в кулаке — глаза сердитые, но сухие.
— Пойдемте, Аля, сядем где-нибудь, — попросил я. — Целый день на ногах.
Вскинув рыжую копну волос, тяжело и прочно ступая, она провела меня в столовую, первая устало опустилась на стул, кивнула.
— Там…
Дверь, ведущая в столь знакомую мне угловую комнатку Ивана Трофимовича, плотно прикрыта, ни шороха, ни голосов не пропускает — непривычный гость действует в тишине.
— Родной дочери запретили даже заглядывать! — Алевтина Ивановна не боится, что ее раздражение будет услышано. — Таинство, видите ли. Душу открывает… Кому?! Не мне, не вам — чужому человеку!
Именно это-то у меня сейчас вызывает никак не раздражение, а вину. Иван Трофимович пытался мне исповедоваться, да, и настойчиво, но в последнее время полного понимания у нас не получалось. Я уносил огорчение — эх, старость не радость, а Иван Трофимович оставался со своим — кому повем печаль мою? Как было ему, однако, нестерпимо плохо, если решился пригласить со стороны, пусть даже не враждебного уже теперь, а все равно чужого человека, своего рода должностное лицо. Ему повем сокровенное, больше некому… Обиженно-раздраженный голос дочери мне неприятен: тебе-то, голубушка, наверняка тоже пытался исповедоваться, хоть бы чуть устыдилась, что не смогла понять отца.
— Вы, конечно, думаете — должна бы наотрез отказать… Впрочем, отца вы моего хорошо знаете, никогда он ни перед чем не останавливался. Отказала бы — умер, да еще и проклял перед смертью… Вот мне и хотелось, чтобы вы… вы пораньше, до прихода попа встретились. Вы один имеете на отца влияние. Просила же не опаздывайте!..
— Вряд ли я что-нибудь бы изменил, Аля.
— Но тогда — кто, кто как не вы?..
— Кто поможет человеку, который сам в себе запутался?
— Ах, вам-то что! Пожмете плечами: мол, старый знакомый с ума спятил. А нам каково? На нашу семью пятном ляжет, не сразу отмоемся. Муж лекции о дарвинизме читает, издательство «Знание» договор на книгу с ним заключило. А теперь станут трубить кому не лень: в семье дарвиниста поповщина гнездо вьет.
У нее ненастно-серые глаза, какие когда-то были у отца, но в них злой, колючий зрачок, и в лице ее, пухлом, утратившем скупую отцовскую рубленость, проглядывает что-то дрябло-бульдожье.
— Послушайте, Аля, отцу сейчас куда хуже, чем вам. На вашем месте я все-таки думал бы о нем, а не о себе.
И она задохнулась.
— Вы!.. Вы смеете — мне!.. Я — о себе, о нем нет?!
— Да, и не только сейчас, а уже давно. Давно отец для вас — досадная обязанность, житейский долг, который полагается выплачивать.
Я знал, на что иду: с этой минуты мы враги, но многого не теряю: друзьями мы никогда и не были. А я бы презирал себя, если б перед надвигающейся смертью предал своего командира, своего названого отца. Не от трусости, не от ханжества этот мужественный и честный человек изменял теперь сам себе — от отчаянья. Кому дано понять глубину отчаянья ближнего? Не дочери же, страшащейся за судьбу мужниной расхожей книжонки. Не решусь сказать: понимаю, но подозреваю — отчаянье бездонно.