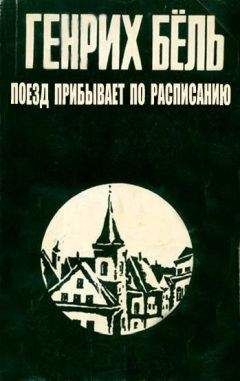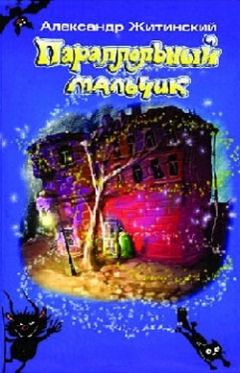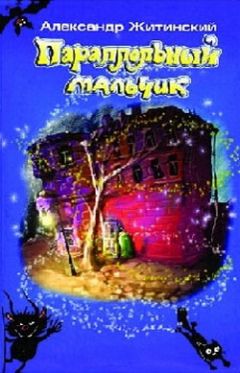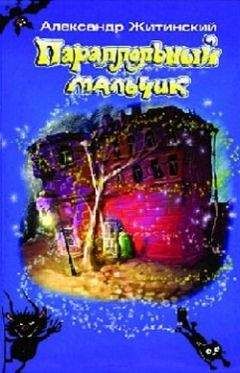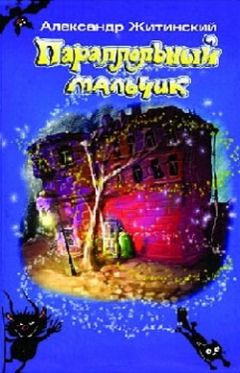Александр Аборский - Год веселых речек
Впереди в сумрачной степи вспыхнули фары машины. Когда он поравнялся с ней, машина остановилась. Щелкнула дверца, и послышался веселый голос Назарова:
— Кто при звездах и при луне так поздно скачет на коне? Ого, я угадал — Таган Мурадович. Откуда? А я думал, вы все еще у Мергенова. Ну как там? — Назаров вынул из кармана портсигар, открыл и протянул Тагану. — Вы ведь курите, кажется?
Таган вяло принялся что-то рассказывать о колхозе, о Мергенове, и Назаров тотчас понял неуместность делового разговора.
— Да погодите, в самом деле, погодите-ка! — затрубил он, перебивая. — А ночь-то, звезды, торжественность! И настраивает на великое, чистое… — Он запнулся, не зная, что еще добавить, и неожиданно стал прощаться. — Ну, желаю успеха. Заезжайте. Иногда, знаете, в дом ко мне бы вам забежать, помечтали бы за стаканом вина…
Непредвиденная встреча на дороге встряхнула Тагана. Словно хмель с него слетел, и он уже трезво размышлял о своей неудаче. Сама неудача больше не заслоняла всего мира. «Завтра все-таки съезжу к Завьялову, — сумел переломить себя Таган. — Пусть они там жених и невеста, какое мне дело! Посмотрим на этого нера[9]: правда ли, что любой груз ему нипочем?»
Он бодрился, но, кажется, ни разу в жизни еще не было так обидно и тоскливо.
Глава тринадцатая
Около полуночи Ольга вернулась, зажгла лампу на столе и распахнула окно. Ложиться в постель и спать! На заре за ней заедет Каратаев. Она встретила его вечером, идя к Завьялову в гостиницу, тогда и сговорились ехать вместе.
Свидание в гостинице так взволновало ее, что сон не шел. Хотелось с кем-нибудь поделиться мыслями, но с кем? В доме одна сторожиха. Она душевная, добрая, все поняла бы, Ольга любит с ней разговаривать, но старушка крепко спит за стеной, — не будить же. Ольга откинула одеяло, села и задумалась, уронив руки на колени и глядя на звезды, мерцавшие над черным садом.
Голова и сейчас полна Завьяловым. Странно, прямо-таки с трудом верится! Высокий, сановитой внешности железнодорожник в белом кителе, пахнущий табаком и одеколоном человек, с которым она только что простилась у ворот, — это и есть Сеня Завьялов, тот самый, с кем она когда-то каждое лето проводила в Карайболе.
Карайбол — область ее детства: железнодорожная станция с поселком и речкой в тайге.
Зимой в те годы Лугины жили в Томске, Иван Никитич читал в университете, а Ольга училась в школе. Было ей тринадцать лет, когда впервые приехали на лето в Карайбол, и поселились в сосновом лесу, с густым духом смолы, с клубникой вокруг трухлявых пней и множеством маслят, выглядывавших из-под светло-коричневой хвои. Славно в Карайболе, и друзья есть — дети дорожного мастера, Сеня и Тоня. Ловили рыбу, купались, ходили за ягодами и к пещерам, где будто бы обитали разбойники.
Тоня была бесцветной девочкой, а ее брат, босой, в заштопанных штанах и вылинявшей рубашке, сразу же пленил городскую девчонку удалью, ловкостью и изобретательностью, Сеня придумывал забавные игры, рискованные путешествия по глухим местам, рассказывал у костра на речке страшные истории про беглых каторжников и то с увлечением строил у себя в сарае модели сверхмощных паровозов, то забирался на сеновал и читал Марка Твена. Он почти всегда был в движении, только приходя к Лугиным на дачу, вдруг деревенел, опускал голову и улыбался, когда заговаривали с ним. Профессорство Ивана Никитича казалось ему явлением исключительным, он смотрел на хозяина дачи как на бога, сошедшего с неба, и конфузился своей собственной ничтожности.
В их доме он с Ольгой держался скованно, как будто видел на ней отсвет необычайной личности ее отца. Сеня сумел пленить не только Ольгу, но и ее мать, и особенно Ивана Никитича, который сразу же заметил в мастеровом сынишке исконную русскую пытливость и ждал от него чего-то значительного.
— Этот дичок еще покажет себя!.. — говорил Иван Никитич. Он дарил мальчишке книги и беседовал с ним на серьезные темы. Сеня «приручился», стал в доме Лугиных своим.
Уже на другой год в Карайболе на ивах у речки появились сердца, пронзенные стрелами, вензеля «О» и «С» — первые знаки первой любви. Любовь с каждым летом разрасталась. На лоне таежной карайбольской природы Ольга пережила тогда такое обилие романтических чувств во всей их первоначальной свежести, что долгие годы потом вспоминала о Карайболе как о чем-то неповторимо прекрасном.
Ольге исполнилось семнадцать, когда Иван Никитич перевелся в Московский университет, и ей пришлось расстаться с Карайболом и с «нареченным» своим, к тому времени уже студентом транспортного института. Она уезжала с растерзанным сердцем, но все-таки с уверенностью, что Сеня — это судьба. Через четыре года, считалось тогда у них, соединятся они на веки вечные.
Они встретились, когда «нареченный» окончил институт, стал служить на Среднеазиатской дороге и приехал в Москву в командировку. Он возмужал, держался по-прежнему скромно, но уверенно и сохранил прежние чувства к Ольге. Ольга и ее мать, Анна Васильевна, были от него в полном восторге, Иван Никитич также встретил «старого карайбольского дружка» чрезвычайно радушно, за чаем расспрашивал о работе, о планах на будущее. Арсений отвечал дельно и с какой-то особой ясностью человека все познавшего. Ольга слушала его с интересом.
Потом, как обычно, пошли воспоминания о Сибири, о преимуществах таежного климата, и тут самыми разговорчивыми оказались Ольга и Анна Васильевна. Сеня тоже оживился, а Иван Никитич, не любивший «сентиментальных оглядок», молча курил да изредка поглядывал на Сеню, как бы изучая. А когда он ушел и Ольга с матерью стали взахлеб хвалить его высокий рост, ум и скромность, Иван Никитич искоса посмотрел сперва на жену, потом на дочь и замотал головой.
— Не то, не то… Ну разве думал я, что мастеров сынишка станет таким!
— Каким «таким»? — возмутилась Анна Васильевна. — Уж ты, известно, всегда высмотришь чего и нет.
Ольга горячо защищала Арсения от нелепой, как ей казалось, придирчивости отца. Иван Никитич слушал, помалкивал, только усмехался.
Завьялов пробыл в Москве всего неделю, встречались они с Ольгой вечерами. И московские вечера были почти такими же волнующими, как когда-то в Карайболе.
Она вспомнила все это теперь, глядя на звезды. И ей захотелось излить душу суровому отцу своему. Ольга пересела к столу, взяла лист бумаги, вечное перо и стала быстро писать:
«…Только что возвратилась из гостиницы, от Арсения Ильича Завьялова. Назвать его попросту Сеней невозможно — язык не поворачивается. „Мастеров сынишка“ такой стал важный — впору настоящему барину, если бы он, Сенька, не был путейским чиновником. Он приехал сюда вгонять в жар и трепет местных железнодорожников и завтра уезжает. Остановился в роскошном номере с великолепными текинскими коврами, специально оборудованном здешними подхалимами только для высокого начальства.
Когда я вошла под сладчайшие звуки Моцарта, Арсений Ильич поспешил мне навстречу, но уже не с юношеским самозабвением и легкостью, а с сознанием собственного достоинства и с такой солидной осанкой, что я не рискнула упасть в его объятия. Ради бога, папа, прости мне такую откровенность. Слишком мало в мире людей, с которыми я могу быть до конца откровенной, а замыкаться в себе ты не научил меня. Потому не суди строго, папочка. Да, я боялась смять его белоснежный китель, хотя соблазн был велик. Кстати, твой карайбольский дружок похорошел: веснушек почти не осталось, утонули, должно быть, в бронзовом загаре.
Мы все-таки обрадовались друг другу, сели на диван и застрекотали как сороки. Долго не виделись! Расспрашивал о тебе, о маме, о моих каракумских скитаниях и все удивлялся, как это я сама, по доброй воле, могла променять Москву на пустыню, да притом очень довольна своей работой и жизнью. Мой наивный идеализм ему непонятен. Вот если бы я приехала сюда для разбега, для прыжка в высшие сферы, это Арсений Ильич понял бы и назвал бы меня умницей. Сам только и мечтает о Москве со всеми ее благами — видимо, и добьется своего. Судя по тому как быстро у него идет продвижение по службе, он неплохой специалист. Рассказывает о своих успехах, а мне становится грустно. Вспоминаю, как ты когда-то сказал про него: „Не то, не то!..“ — а я бесилась и не понимала, чем Сеня мог тебе не понравиться. Ведь он не обманул ожиданий. Дичок из сибирской глуши, из простой рабочей семьи — стал инженером, образованным человеком, держался скромно, с достоинством… Казалось, чего еще! Правда, я и сама тогда была чуточку им недовольна. С великим усердием занимался мой „нареченный“ своими служебными делами, а мне, как чему-то второстепенному, уделял одни вечера. Опять прости меня, родной, — но ему и тогда не хватало безрассудства. Хотя я и понимала, что нельзя пренебрегать делами ради личного, а все-таки чувствовала в сердце холодок разочарования и обиды. Словом, я тоже почувствовала в нем что-то „не то“, но по-своему, по-бабьи. А сегодня слушала его, и это „не то“, как облачко, разрасталось в темную тучу и закрывало мое карайбольское солнце. Я видела перед собой не прежнего Сеню, своего „суженого“, как говорили сибирские казачки, мамины знакомые, а совсем чужого мне человека.