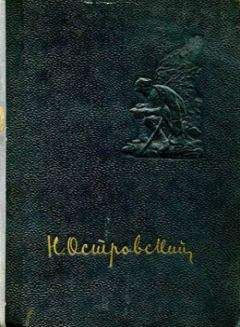Николай Островский - Том 2. Рожденные бурей
— О, что вы, пане капитане! Я оправдаю доверие.
Вечером Раевский с сыном осторожно подошли к своему дому. На окне зажженная лампа.
— Значит, все спокойно. Мама дома.
Отец вошел в квартиру, сын остался сторожить у ворот. Целый день юноша кружил по городу, выполняя поручения отца.
Через минуту из дома вышла мать. На ходу шепнула на ухо:
— Иду к жене Патлая. У нас Олива. Отца дожидался. — И скрылась в темноте.
«Милая, родная мама! Как она изменилась! Какая-то другая стала — совсем молодая…»
— Все будет сделано, товарищ Раевский! У нас на складе в типографии стоит запасная «бостонка». Ручная. Сегодня ночью у нас срочный заказ от ихнего штаба. Приказы, мобилизационные анкеты и воинские книжки надо отпечатать. Я, кстати, и вам принесу всего этого понемножку. Может, пригодится. А это я сегодня ночью сам отпечатаю. Пятьсот штук, больше не успею. Только под утро воззвания надо вынести из склада. И набор тоже, а то разбирать его мне некогда будет. А потом я вам шапирограф по частям притащу. Это штука полезная. А то ведь навряд ли придется печатать в самой типографии. Ведь они, когда прочтут, так все вверх дном перевернут… Это дело надо обтяпать основательно, а то и без головы останешься, — говорил Олива спокойно, рассудительно.
Старый наборщик понравился Раевскому. Все лицо в мелких морщинах. Большие очки в медной оправе, а за ними — голубые, добрые глаза.
— Скажите, товарищ Олива, там, кроме вас, никого больше нет, кому можно было бы доверить?
— Кто его знает? Есть, конечно, порядочные, но в петлю не полезут. Комнатный народ. Остальные еще хуже — два пепеэсовца, сионист и трое — куда ветер дует. Разве только Эмма Штольберг? Ее отец венгерец, но девчонка здесь родилась. Зелена, а так как будто ничего.
— Хорошо, товарищ Олива, действуйте.
Наборщик встал.
— Да, чуть было не забыл! Скажите, вы нам печать сделать не можете?
— Я, конечно, не гравер, но, пожалуй, сделаю. Вам-то ведь не очень фасонистую. Хе-хе… — Морщины на его лице зашевелились, а в уголках глаз собрались веером. — Ну, всего хорошего. Присылайте ребят к пяти утра.
Раевский на минуту задержал в ладони черную от свинцовой пыли руку Оливы.
— Почему вы не в партии, товарищ Олива?
— Стар уж… Где мне! Пусть уж молодые. А я подсоблю. Меня если и повесят, так не жалко — свое прожил. Конечно, умирать никому не охота, но все же молодому это тяжелей. — Он посмотрел на Раевского поверх очков строго и, как показалось Сигизмунду, укоризненно.
Когда Олива вышел, Раймонд вошел в комнату.
— Вот что, сынок, мы поручаем тебе организацию коммунистического союза молодежи. Партии нужны сторожевые и разведчики, преданная молодежь. Ты сам видишь, мы в стане врага. От одного неосторожного шага, движения — может погибнуть вся организация. Молодежь иногда неосторожна по неопытности, вот почему прием в союз новых товарищей — весьма важное дело. Принимать можно только отважных, сознательных, готовых пожертвовать даже жизнью. Представь себе, что мы приняли труса и он почему-либо попадется в руки жандармов. Он ведь выдаст всех в надежде спасти тою шкуру. Его революционности хватит только до первого ареста. Есть такие любители опасных приключений. Наша борьба для них — не кровное дело. Они играют в революцию. Этим чаще всего страдают интеллигентики, начитавшиеся приключенческих книг. Когда дело от игры переходит к смерти, то они начинают трусить. Основное ядро будущей организации мы наметим вместе. Кого ты считаешь наиболее достойным?
Раймонд задумался.
— Я не знаю, отец. Это ведь так серьезно, — прошептал он наконец.
— Хорошо, я помогу тебе. Что ты думаешь об Олесе Ковалло? Она из хорошего рода. Их двое — отец и дочь. Кровная связь — кровное дело. Она, кажется мне, смелая девушка.
— Да, мне тоже так кажется.
— Ну вот! Один товарищ уже есть. Дальше, кого ты знаешь?
Раймонд долго молчал, затем сказал:
— Сарра Михельсон. Ее Шпильман с работы прогнал, а хозяин дома сегодня выкинул их на улицу. Так и сидят во дворе на сваленных вещах. Я ее только что видел, им некуда деться… Как бы им помочь, отец?
Раевский что-то обдумывал.
— Пусть переезжают к нам.
— Но где же они поместятся? Здесь и так повернуться негде, а их шестеро. Потом вещи…
— Ничего, нам отсюда все равно надо уйти. Ты же знаешь, что по городу уже рыщут. Нас не сегодня-завтра нащупают. Пусть переезжают с вещами, распоряжаются, как хотят. А нам придется расселиться в разных местах. Я поселюсь у Ковалло, мама — у тети Марцелины, а ты у кого-нибудь из товарищей… Ну, мы с тобой отвлеклись. Значит, Сарра. Хорошо. Кто еще у тебя на примете?
— Есть еще Андрий Птаха. У того отваги — хоть отбавляй. Только он озорной очень и может перестараться. По-моему, он сознательный, только очень горячий.
Раевский улыбнулся.
— А вы его будете придерживать пока. Осторожность придет вместе с сознанием, что он может погубить не только себя… Он что, твой приятель?
— Да… То есть не то чтобы совсем… Зато он очень хорош с Олесей… -
И Раймонд заметно смутился.
— Ага. Что же, это неплохо. Дружба — огромная вещь… Еще кого ты думаешь?
— Еще есть тот парень, что в тюрьме сидел вместе Патлаем. Чех Пшеничек. По натуре он — подходящий к Андрию.
— Добре. Завтра ты поговори с каждым в отдельности, не называя имен других. Расскажи о всех трудностях, чтобы ребята знали, на что они идут. И только после их доброго согласия можно считать их членами коммунистического союза. Первую группу утвердит ревком, а потом новых товарищей будете принимать самостоятельно… Сейчас ты пойдешь на водокачку. Там ночью предстоит серьезное дело. Ковалло скажет. У тебя есть оружие?
— Да, револьвер, который отобрал у полицейского Андрий.
— Ты знаешь, как с ним обращаться?
— Нет.
— Давай я покажу.
Когда Раймонд освоил нехитрую механику оружия, отец сказал:
— Возьми. Не забывай: стрелять нужно лишь в исключительных случаях, когда иного выхода нет. Но если уж начал стрелять, то обороняйся до последнего патрона. За один или десяток выстрелов — расплата у жандармов одна. Иди, мальчик, и будь осторожен…
Впервые отец назвал его «мальчиком». Раймонду хотелось обнять отца, прижаться к груди, сказать: «Отец, уважаю тебя и люблю!» Но, заметив его нетерпеливое движение, Раймонд поспешно вышел.
По дороге к водокачке забежал к Сарре, чтобы обрадовать ее. Поговорить же с девушкой, как поручил ему отец, он не мог. Все время мешали.
У него оставалось еще часа два свободного времени, и он направился к заводской окраине, где жил Птаха.
Андрий был дома. Он сидел на кровати и играл на мандолине попурри из украинских песен и плясок. Он только что закончил грустную мелодию «Та нема гiрш нiкому, як тiй сиротинi» и перешел к бесшабашной стремительности гопака. Играл он мастерски. И в такт неуловимо быстрым движениям руки лихо отплясывал его чуб.
Младший его братишка, девятилетний Василек, упершись головой в подушку и задрав вверх ноги, выделывал ими всевозможные кренделя. Когда он терял равновесие и падал на кровать, то тотчас же, словно жеребенок, взбрыкивал ногами и опять принимал вертикальное положение.
Заметив Раймонда, Андрий закончил игру таким фортиссимо, что две струны не выдержали и лопнули, что привело владельца мандолины в восхищение.
— А ведь здорово я эту штучку отшпарил! Аж струны тенькнули! — вскочил он с кровати и положил мандолину на стол.
Матери Андрия в комнатушке не было — она ушла к соседям.
— Мне с тобой, Андрий, поговорить надо по одному важному делу.
— А что случилось? — обеспокоился Птаха. — Валяй говори!
— Наедине надо.
Андрий повернулся к Васильку. Тот уже сидел на подушке, болтая босыми ногами и деловито ковыряя в носу.
— Василек, сбегай-ка на улицу!
— А чего я там не видал?
— Я тебе сказал — сбегай! Тут без тебя обойдемся.
— Не пойду. Там холодно, а сапогов нету.
— Одень мамины ботинки.
— Ну да! Чтобы она меня выпорола!
— Ты что, ремня захотел? Что ж я, по-твоему, от тебя на двор должен ходить?
— Зачем ходить? Я заткну уши, а вы говорите.
— Васька! — повысил голос Андрий.
Но Василек продолжал сидеть, не изъявляя желания подчиниться. Андрий стал расстегивать пояс. Василек зорко наблюдал за его движениями. Раймонд взял Птаху за руку.
— Пойдем, Андрюша, во двор. Там в самом деле холодно.
Они сели на ступеньках. Дверь из комнаты тихо скрипнула.
— Васька! Засеку! Я тебе подслушаю!
Дверь быстро закрылась.
— Ты что, его в самом деле бьешь?
— Да нет! Но стервец весь в меня. Я ему одно, он мне другое. А бить не могу — люблю шельму. Он это знает. Все сделает, только надо с ним по-хорошему. Не любит, жаба, чтобы им командовали…