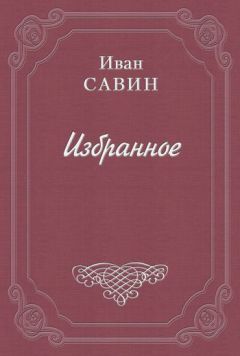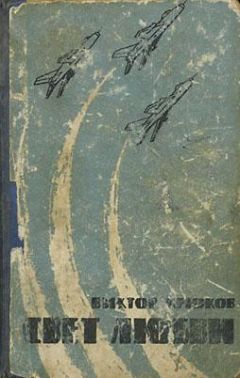Виктор Савин - Чарусские лесорубы
Он долго бродил среди досок, бревен, срубов, говорил с людьми. Пробравшись через бунты бревен, остановился возле строящегося дома. На фундамент ложились еще первые венцы, а внутри уже клали печи. Паня и Лиза подносили кирпичи, глину.
Заметив Зырянова, Медникова что-то сказала своей подружке и пошла к нему навстречу.
— У вас фотоаппарат есть? — спросила она, пряча прядки черных волос, выбившихся из-под красной вылинявшей косынки.
— Есть, — ответил он.
— Есть, Панька, есть! — не скрывая радости, закричала она Торокиной, стоявшей у носилок.
— Что-то вы прямо с места в карьер — спрашиваете о фотоаппарате, даже не поздоровались.
— Ой, простите, Борис… Здравствуйте! Я и забыла.
— Но зачем вам фотоаппарат?
— Мы в воскресенье организуем экскурсию на Водораздельный хребет. Там, говорят, очень красиво. Видно далеко-далеко, чуть не весь Урал. Корзинки с собой возьмем, малины наберем, брусники.
— Кто экскурсию организует?
— Комсорг. Я пошла к Мохову и договорилась, а то надоело: танцы да танцы. Все ребята и девчата согласились; из Сотого квартала молодежь тоже обещалась. Вот шуму в лесу зададим!
— А кто вас поведет, еще заплутаетесь?
— Тут есть один дядька, вон там в домике живет, пилоправ Кукаркин. Он, говорят, здешние места вдоль и поперек исходил.
— Пойдет с вами?
— Пойдет.
— Навряд ли…
— Я его уже уговорила. Он на меня сначала даже не смотрел, а я его: «Дяденька, миленький!» — наговорила ему всяких ласковых слов, расцеловать обещалась. Он расхохотался и говорит: «Ну, девка, не умрешь, так много горя примешь… Ладно, собирайтесь, свожу, куда вас денешь, пока молоды, так нечего вам киснуть».
— А фотографировать кто будет?
— Вы.
— Я не смогу пойти.
— Борис! — шутливо топнула она ногой. — Сможете! Если пойдете — ни на шаг от вас не отстану, буду по пятам ходить, как кошка: мур, мур.
— До Водораздельного до самой вершины неблизко, надо день потерять.
— Ну и что ж? Мы пойдем с вечера, там переночуем. Мы ведь на выходной пойдем.
— Я подумаю.
— И думать нечего. Пойдемте, Борис!
Она поглядела на него и как-то забавно подмигнула, обеими глазами враз.
— Хорошо, постараюсь выкроить время, — сказал он.
— Пойдет, Панька, пойдет! — снова закричала она своей подружке.
— Я к вам по очень серьезному делу зашел, — продолжал он.
— По какому?
— Когда я сегодня собирался в Новинку, начальник отдела кадров мне сказал, что вы хотите поехать на курсы электропильщиков?
— Конечно, хотим.
— А вот директор возражает. Говорит, что вы не кадровые рабочие, мы дадим вам денег, а вы сбежите и оставите леспромхоз без электропильщиков.
— Да куда же я побегу от вас, от здешних ребят, девчат? Я уж прижилась тут. Мне только сначала не понравилось. Хочу получить квалификацию, надоело кирпичи да глину таскать. Хочу стать лесорубом, механизатором, как этот ваш Сергей Ермаков, как все. Ермакова я еще не видела, но завидую ему, он герой. О нем говорят все. В газетах пишут.
— Ермаков у нас действительно молодец.
— А разве девушки не могут равняться с парнями?
— Могут, почему же нет?
— Ну вот. Так дайте мне в руки электрическую пилу.
— Хорошо. Будет по-вашему. А подружка ваша, Торокина, она не подведет леспромхоз?
— Панька? Она от меня шагу не ступит. Она жить не может без поводка. А теперь у нее тут дружок есть — Гришка Синько, теперь из леспромхоза Паньку ничем не выманишь. А работать она — гору свернет, только не гони прытко. Это я ее уговорила в электропильщики пойти, ей пилой работать в самый раз, она не ленивая.
— Ладно, девчата, поедете на курсы.
— Борис!
Она стиснула ему ладонями щеки, посмотрела сияющими глазами в его лицо и бросилась бежать — только доски, разбросанные вокруг, заговорили под ногами.
Зырянов стоял точно оглушенный.
— Ну и ну! — вырвалось у него, когда Лиза скрылась из глаз.
Со стройки он направился к Дарье Цветковой. Она сидела возле дома на бревнышке и читала газету. Перед нею на веревке были развешены шубы, пальто, мужской суконный костюм; от вещей пахло нафталином.
Поздоровавшись с уборщицей, он спросил:
— Ну как живем, Дарья Семеновна?
— Помаленьку, товарищ Зырянов.
— Сушкой занялись?
— Да ведь надо. Плесень в сундуках пошла. Гноила добро, прятала, боялась вывешивать. Ночью спать на сундуки ложилась, думала, как бы кто не залез в окно да не обобрал.
— А теперь не боитесь?
— Теперь спокойно стало. Теперь никто в Новинке не жалуется на воровство.
— Откуда у вас мужское добро?
— Это еще моего Дмитрия. Ушел на фронт, погиб, а это мне на поглядочку оставил. Он ведь у меня домовитый был, копейки зря нигде не истратит, все в дом, все в дом несет. Одевался хорошо, чисто служащий: пиджачок на нем, брюки, щиблетики. Все соседки мне завидовали. У других мужья в чем попало ходят, лишь бы наготу прикрыть, а мой очень разборчивый, брюки с заплаткой не наденет.
— Кем он был?
— Известно, как все, лес рубил.
— Трудно, поди, одной-то жить?
— Конечно, не много радости. Только мужики-то на дороге не валяются, это не дрова, не поленья — пошел да любое выбрал. Хороший на меня не поглядит, а плохого мне не надо… Тут уже один подсватываться начал, да не по душе мне…
— Кто это? Если не секрет?
— Да Шишигин-то. Приветила его. Ну, он ко мне и зачастил. Как с работы придет, умоется, бороденку разгладит, волосы причешет и заявляется в каморку. Хоть двадцать раз до этого видимся, а он как заходит и говорит: «Здравствуйте, Дарья Семеновна! Как насчет новостей? Все еще американцы на нас зуб точат? А как товарищи китайцы живут?» Поспрашивает, поспрашивает, а потом: «Вам, Дарья Семеновна, дровишек не принести? Может, за водой сходить надо?» А тут как-то говорит: «У вас, Дарья Семеновна, кровать-то широкая, двуспальная…» Ишь, куда загнул! Ладно, что под рукой ничего не погодилось, а то бы показала ему широкую кровать!
— Ну, а как общественная работа в общежитии?
— Ничего. Каждый вторник и пятницу газеты читаю. Мне так и приказал Березин. Ты мне, говорит, отвечаешь за вторник и пятницу. Не выполнишь поручение — на партийном собрании ответишь. Напрасно он так строго приказывает. Рабочие сами собираются и меня приглашают. Чуть замешкаешься, Богданов приходит и говорит: «Даша, айда, ждут!»
— Неужели Богданов так говорит?
— Он совсем другим становится, на гармошке поиграет: ну, размякнет вроде. Обращенье с людьми другое. Как чуть что на душе у него, видно, потяжелеет — он за гармошку берется. Уйдет на горочку в лесок и там играет про себя, легонько играет, а отсюда все же слышно. Иной раз послушаешь — слеза прошибает. Уж больно печально играет, будто гармошка у него тоской налита… Придет в общежитие тихий, обходительный. Меня раньше никак не называл, только и слышишь от него: «Эй, ты!» А теперь все Даша да Даша… Ну, как придет, скажет, что, дескать, ждут, я беру газеты и иду с ним в общежитие. А они уже сидят на своих местах, на койках. Муха пролетит — слышно. А я вхожу, будто учительница в класс, место мне приготовлено за столом. Рядом садится Богданов. Я читаю или рассказываю, что у меня по плану намечено, они все слушают, а Богданов на них только белками этак легонечко поблескивает. А как разговаривать кто начнет между собой, он сразу туда глаза свои наведет, будто из ружья, из двустволки, нацелится. И прикажет: идите, мол, погуляйте на улице.
— Ну, а сами они выступают?
— А то как же. Иной раз засыплют вопросами, так и отвечать не знаешь как. А то они между собой спор начнут, я уйду, а они все еще там спорят, с кроватей повскакивают, собьются в кучу.
— Сам-то Богданов участвует в разговорах?
— Слушать — слушает, но все молчит, никогда не задаст вопроса, слова не обронит.
— И на каждой беседе бывает?
— Бывает, когда в духе. А если не в духе — уходит, возьмет гармошку и уйдет.
— Без него, наверно, порядка нет на беседе?
— Вместо Богданова порядок наводит Шишигин, только его не шибко слушают. Кого интересует беседа — поближе подвинутся к столу, кого не интересует — по углам бубнят. Шишигин-то кричит, петушится, сам шуму больше делает. Да и кому охота замухрышке подчиняться — только слава, что мужик.
— Ну, а так-то Богданов ничего, не скандалит?
— В общежитии нет, а на стройке, говорят, все время с начальством не в ладах. Вчера, позавчера ли было у него сражение с Чибисовым.
— Дрались, что ли?
— Не дрались, а ругались на чем свет стоит.
— Странно, почему же Чибисов молчит об этих скандалах?
— Чибисов-то и сам, когда разозлится, не может сдержать себя. А разве можно с рабочими грубить? Богданов-то шибко не терпит несправедливость к себе, грубость. На днях он расходился возле умывальника. Воды, видишь, не хватило. Я налила, а ее выхлестали другие. Он мылся последним. Только намылился, хвать за соски, а воды нет. Ну, и пошел, и пошел — уши вянут от ругани. Я услышала это, бегу скорее с ведром и говорю: «Извини, Харитон Клавдиевич, это мой недогляд…» Как только свеличала его, он сразу обмяк, посмотрел на меня по-доброму и говорит: «Подлей, Даша, водички»… И с тех пор Дашей меня стал звать. А отчество я его узнала в конторе. В получку кассир деньги выдавал и прочитал в списке его фамилию, имя и отчество… Я думаю, ему ласковое слово требуется: кнут и палка действуют на кожу, а ласковое слово проникает к сердцу.