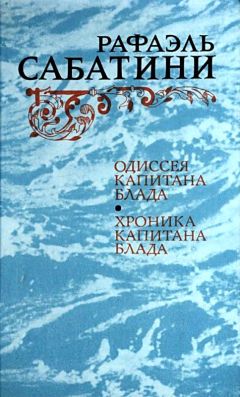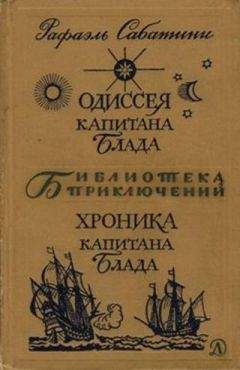Владимир Монастырев - Рассказы о пластунах
Я не надеялся, что он помнит мою фамилию.
— Марка Гутина вы помните? — спросил я.
— Конечно, — ответил Муравьев. Помолчал несколько секунд и добавил: — А вы его друг… из дивизионной газеты?
Он ничего не забыл и обрадовался нашей встрече не меньше моего. Мы вместе поужинали, потом пошли к морю и посидели на берегу. Он рассказывал о том, как учился в консерватории, говорил о своем настоящем и будущем. А мне все время виделись иные картины: я не мог отделаться от воспоминаний…
…В батальон Венька попал осенью тысяча девятьсот сорок четвертого года, вскоре после кровопролитных боев, которые пластуны вели за польский город Дембицу. Подробности его появления не помню, дело было не при мне. Когда я зашел к Гутину, Венька был уже умыт, пострижен, обмундирован. Глядел парнишка волчонком, костлявым личиком походил на безбородого старика.
— Вот, — сказал мне Гутин, — наследника бог послал. А что, усыновлю парня и будем мы с ним жить в любви и согласии. Он сирота, я сирота. Как скажешь, Вениамин?
Мальчишка молча вздохнул и прикрыл свои яркие глаза синеватыми старческими веками.
Гутина я знал давно — до войны еще мы с ним служили рядовыми в одной роте. На фронте снова встретились. Марк Гутин носил капитанские погоны и занимал должность адъютанта старшего, а попросту говоря — начальника штаба в одном из пластунских батальонов. Худощавый, остроносый, с острыми маленькими глазками, он выглядел очень моложаво, но как-то посуровел, внутренне усох, что ли. Да и немудрено — война прошлась по нему всеми четырьмя колесами: в Киеве погибли его мать и сестра, сам он три раза был ранен.
Я знал, что Марк любит и знает музыку — до армии учился в консерватории по классу фортепьяно, — что он дня прожить не может без стихов и таскает в планшете томик Багрицкого. Мне было известно, что он питает слабость к сладкому и стыдится этого, считая непростительным для мужчины. В общем, я много знал о Гутине, но о том, что он неравнодушен к детям, не подозревал. С наружностью его это как-то не вязалось: холодновато-вежливый, подтянутый, всегда застегнутый на все пуговицы, он в моем представлении никак не укладывался в раздел любвеобильных добряков, которые легко изливают на детишек нежность своей души и быстро завоевывают их расположение. Но, видимо, знал я о Марке Гутине далеко не все. С Венькой у них дело сладилось на удивление быстро: диковатый мальчишка сразу привязался к строгому капитану, холодновато-корректный Марк оттаивал в присутствии Веньки.
Пластуны долго, до самого января сорок пятого, стояли в обороне, на передовой было сравнительно тихо, и Вениамина оставили в батальоне — пусть подкормится, придет в себя. Прежде чем попасть к пластунам, парнишка два месяца скитался, пробираясь на восток. На запад он двигался вместе с матерью — их угнали в Германию. Мать умерла, и Венька ушел, твердо решив вернуться в Россию. В свои одиннадцать лет мальчишка видел столько горя, что другому хватило бы на всю жизнь.
Прошло немного времени, и Венька Муравьев превратился в щекастого румяного парнишку. В глазах его погасли волчьи огоньки — стал он смотреть на мир доверчиво и с любопытством. Тут его и окрестили Веньчиком, и это ласковое имя очень шло к его круглой, посвежевшей мордашке.
Пользуясь затишьем на фронте, строевое и политическое начальство проводило в штабе дивизии различные совещания и семинары, на которые нередко вызывали и Марка Гутина. А он обязательно брал с собою Веньку. Дело в том, что у парня обнаружились незаурядные музыкальные способности. У него был абсолютный слух, он на лету схватывал любую мелодию. Глядя на его руки, Марк неизменно приходил в восторг: пальцы у Веньчика были поистине музыкальные — длинные, чуткие, сильные пальцы. Гутин раздобыл ему мандолину, и мальчишка со сказочной быстротой научился на ней играть. Но мандолина не ахти какой инструмент. Гутин твердил, что Венькины руки созданы для клавиатуры. В селе, где размещался штаб дивизии, в доме священника, стояло чудом уцелевшее пианино. К этому пианино Марк и тащил Веньку при каждом удобном случае.
Гутин и сам тосковал без инструмента, хотя никому в том не желал признаваться. Но я-то знал. Я видел, как он, словно нехотя, садился за пианино, как загорались его глаза, как вздрагивали от нетерпения пальцы, которые он медлил положить на клавиши.
Я очень хорошо помню, как мы первый раз пришли в этот дом, прилепившийся к зданию костела. Жителей выгнали из села немцы, когда готовили здесь оборонительные рубежи. Комнаты были пусты, массивная мебель расставлена вдоль стен в казарменном порядке. Смеркалось, мы завесили окна плащ-палатками и зажгли принесенные с собой свечи.
Марк попробовал инструмент.
— Вполне приличный, — сказал он. — И не расстроен. — Помолчал и с силой ударил по клавишам.
Бам… бам… бам… бам…
— Тут вступает оркестр, — сказал он, не поворачивая головы. Я прикрыл глаза, и мне показалось, что я в самом деле слышу оркестр, слышу это удивительное, грохочущее, как обвал, вступление. Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского. Зал консерватории на улице Герцена, блестящие трубы органа, черные фраки и белые манишки оркестрантов, выдвинутый вперед рояль с крышкой, поднятой, как черное крыло… Все это в ту пору было от нас так далеко и вдруг так близко придвинулось, что я даже головой тряхнул, чтобы избавиться от наваждения.
А Веньчик сидел, вцепившись длинными пальцами в подлокотники кресла, приоткрыв рот, широко распахнув свои серые глаза. В его воображении концерт Чайковского вызвал какие-то иные картины, и оркестр он себе представлял иначе, но все равно музыка захватила его властно, и он не мог оторвать взгляда от рук Марка Гутина.
Марк стал давать мальчику уроки музыки. Венька учился читать ноты, а раз в неделю ухитрялся побывать в штабе дивизии и поупражняться в игре на пианино.
Я с удовольствием бывал у них в батальоне. Если случалось брать материал у соседей, то ночевать старался попасть к Гутину. Его землянка под тремя накатами бревен была невелика, но «обставлена» со вкусом: нары не сплошные, а вытянуты по стенам, как полки в вагоне. В центре — круглый стол. Видимо, потому, что он был круглый, за ним могло разместиться несметное количество гостей. По стенам — аккуратные полочки, на них, рядом с жестяными кружками, две банки из-под консервов, в них всегда свежие полевые цветы. Потом, когда наступили холода, цветы уступили место хвойным веточкам.
В землянке, кроме Гутина и Веньки, жил майор Сосин, заместитель командира батальона по политической части. Это был большой, очень сильный физически и очень добродушный и разговорчивый человек. Прямая противоположность Гутину. Может быть, поэтому они так прочно «притерлись» друг к другу. Во всяком случае, всюду они селились вместе, и я не помню случая, чтобы между ними возникло какое-то несогласие. К Веньчику Сосин относился с мужской нежностью, парнишка отвечал ему крепкой привязанностью. Венька любил майора, но совсем не так, как Гутина. Тут уж сравнений и быть не могло. Марка Веньчик боготворил.
Я любил вечера, когда в землянке задергивалось оконце, зажигался универсальный светильник военного времени — латунная гильза с фитилем, и Веньчик садился на нарки, подобрав под себя ноги, вооруженный мандолиной. Сосин обычно сидел, вытянув ноги в громадных сапогах, подпирая широкой спиной стенку. Марк лежал, подложив руки под голову и глядя в потолок.
Веньчик начинал с импровизации. Это у него здорово получалось: он причудливо переплетал знакомые мотивы и какие-то неведомые мелодии. Мандолина в его руках то грустила, то рассыпалась смехом, то слышались суровые ноты и четкие маршевые ритмы. Потом тихо-тихо наигрывал Венька что-нибудь очень знакомое — «Землянку» или «С берез неслышен, невесом…». Сосин воспринимал это как приглашение: откашливался и негромко начинал петь. Голос у него был теноровый, мягкий, он поднимал песню все выше, выше. Где-то в середине куплета неожиданно вступал Марк. Он вторил басом, будто прикрывал и поддерживал начатое Сосиным.
…Так что ж, друзья, коль наш черед,
Пусть будет сталь крепка, —
выводил майор. И Марк вторил ему:
…Да будет сталь крепка…
И уже вместе, согласно выговаривали они:
…Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука!..
Суровая и нежная песня трогала самые глубокие душевные струны, и, когда певцы заканчивали, я говорил им взволнованно и благодарно:
— До чего ж хорошо поете, идолы.
— Хо-хо, — посмеивался Сосин, — академична капелла в сопровождении заслуженного бандуриста Веньчика Муравьева.
Марк молчал, по-прежнему глядя в потолок. Иногда он так же неожиданно, как вступал в песню, начинал читать стихи: